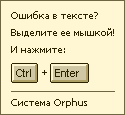ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ИННОКЕНТИЙ, МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ
(К 70-летию со дня кончины)
В настоящем 1949 г. исполнилось 70 лет со дня кончины Высокопреосвященного Иннокентия (Вениаминова), Митрополита Московского и Коломенского, занявшего эту кафедру после приснопамятного Митрополита Филарета (Дроздова). Но не в сане Московского иерарха, не по административной или ученой деятельности, как его предшественники и преемники, известен был Митрополит Иннокентий, а как ревностный миссионер, просветитель многих народов на дальней окраине нашей страны — на Аляске, на Камчатке, в Якутии и на Амуре, — где он провел целых 45 лет. Благодаря его неустанной деятельности многие из этих народов были не только оглашены проповедью евангельского учения, но впервые получили письменность на своем родном языке и таким образом приобщились к начаткам культуры. И Господь благословил успехом труды Своего верного раба, несмотря на скудость средств и помощников, несмотря на суровые условия, в которых ему приходилось работать.
Митрополит Иннокентий родился 26 августа (старого стиля) 1797 г. в селе Ангинском Иркутской губ. в семье пономаря местного храма Евсевия Попова и был назван Иоанном. Когда мальчику было шесть лет, умер его отец, и мать с четырьмя детьми осталась в бедственном положении. Чтобы несколько помочь осиротевшей семье, брат умершего — диакон того же храма — взял Иоанна к себе на воспитание.
Мальчик был способный и прилежный в учении. Еще четырех лет он стал учиться грамоте у своего больного отца. У дяди же он сделал такие успехи, что семи лет читал в храме Апостола в день Рождества Христова. Кроме грамоты дядя обучил его часовому делу и другим механическим занятиям, и мальчик пристрастился к ним на всю жизнь.
В 1806 году девятилетним мальчиком Иоанн Попов был определен в Иркутскую Духовную Семинарию, в которой пробыл свыше 11 лет. Начальство ценило способного и благонравного семинариста и даже назначило его помощником эконома при семинарии. При перемене неблагозвучных или одинаковых фамилий, что часто практиковалось в то время в семинариях, Иоанн Попов получил фамилию Вениаминова в честь скончавшегося в то время епископа Иркутсткого Вениамина, известного своей просвещенностью и величественной наружностью.
В 1817 г., за год до окончания семинарии, Иоанн Вениаминов вступил в брак и был посвящен в диаконы Иркутской Благовещенской церкви. В сане диакона Иоанну Вениаминову пришлось прослужить четыре года, и только в1821 году он был рукоположен во священника на открывшуюся вакансию в той же Благовещенской церкви.
Как священник, о. Иоанн Вениаминов прослужил в этой церкви всего два года, но успел снискать любовь прихожан истовым совершением богослужения и, в особенности, тем, что по воскресеньям перед Литургией собирал в храм детей и давал им уроки Закона Божия.
Но к иного рода деятельности предназначен был о. Иоанн Промыслом Божиим. В начале 1823 г. Иркутский епископ Михаил получил предписание от Святейшего Синода выделить священника для отправки на Алеутские острова, входившие в состав тогдашних русских владений. Однако никто из духовенства не хотел ехать, боясь дальности расстояния и суровых условий жизни.
Епископ Михаил был в полном затруднении, не зная кого послать в Америку, как вдруг является к нему о. Иоанн Вениаминов с выражением желания ехать.
С грустью отпустил епископ Михаил такого примерного священника, и 7 мая 1823 г. о. Иоанн Вениаминов выехал из Иркутска, вместе с женой, сыном, матерью и братом. Путь его был чрезвычайно труден. Заехав по дороге на родину, в село Ангинское, он спустился оттуда по реке Лене до Якутска, а далее до Охотска более 1000 верст ехал верхом на лошадях по непроходимой дороге. Последний переезд от Охотска до острова Уналашки о. Иоанн совершил на судне Российско-американской компании.
Остров Уналашка, где должен был поселиться о. Иоанн Вениаминов, принадлежит к группе Алеутских островов, которые, вместе с прилегающей территорией Аляски, были открыты русскими в половине XVIII столетия и вскоре объявлены владениями России. Заселение их русскими промышленниками, привлекаемыми богатым пушным промыслом, началось с конца XVIII века. Одновременно началась и проповедь христианства среди туземцев. В конце XVIII века здесь подвизалась миссия под начальством архимандрита Иоасафа, которой удалось крестить жителей на Кадьяке и других островах.
Несмотря на кратковременность проповеди, христианство в этих краях имело большой успех. Особенно усердно принималось оно алеутами, которые по своему мягкому, кроткому характеру охотно принимали христианскую веру, навсегда оставляя язычество. Ко времени прибытия о. Иоанна в русских владениях в Северной Америке имелось, кроме него, еще 3 священника-миссионера, живших на разных островах.
Приехав на Уналашку, о. Иоанн Вениаминов нашел здесь крайнюю скудость решительно во всех сторонах жизни и миссионерского дела. На острове не было даже храма, и богослужение совершалось в часовне. Поэтому первой заботой о. Иоанна было построение храма, что, однако, оказалось делом нелегким, так как из алеутов никто работать не умел, и о. Иоанну пришлось предварительно обучать их плотничному, столярному и другим ремеслам. В построенном, наконец, храме многое, как, например, престол и иконостас, было сделано руками самого о. Иоанна. Одновременно он усердно изучал алеутский язык, овладение которым представляло значительные трудности, вследствие своеобразия звуков и полной его неизученности.
Но, построив храм и усвоив язык, о. Иоанн мог уже успешно вести свою миссионерскую деятельность. Его постоянные проповеди и беседы отличались простотой и доступностью и были согреты таким непосредственным христианским чувством, что производили большое впечатление и устанавливали настоящие сыновние отношения паствы к своему пастырю.
Помимо Уналашки, о. Иоанн Вениаминов постоянно посещал и другие острова для наставления своей паствы и для проповеди Слова Божия некрещенным. Невозможно себе представить те трудности и опасности, которые ему приходилось переносить в подобных путешествиях, совершавшихся на утлой туземной лодке в холод и непогоду. Но зато во время посещений и бесед с алеутами, когда, по словам о. Иоанна, «скорее утомится самый неутомимый проповедник, чем ослабнет их внимание и усердие к услышанию слова», сам о. Иоанн «деятельно узнал утешения христианской веры, эти сладостные и невыразимые прикосновения благодати». О чудесном же случае во время одного из таких посещений расскажем также словами о. Иоанна.
«Проживши на острове Уналашке почти 4 года, я в Великий пост отправился в первый раз на остров Акун к алеутам, чтобы приготовить их к говению. Подъезжая к острову, я увидел, что они все стояли на берегу наряженными, как бы в торжественный праздник, и когда я вышел на берег, то они все радостно бросились ко мне и были чрезвычайно со мною ласковы и предупредительны. Я спросил их: почему они такие наряженные? — Они отвечали: «Потому, что мы знали, что ты выехал и сегодня должен быть у нас; то мы на радостях и вышли на берег, чтобы встретить тебя». — «Кто же вам сказал, что я буду — у вас сегодня, и почему вы меня узнали, что я именно о. Иоанн?» — «Наш шаман, старик Иван Смиренников, сказал нам: ждите, к вам сегодня приедет священник; он уже выехал и будет учить вас молиться Богу; и описал нам твою наружность так, как теперь видим тебя». — «Могу ли я этого вашего старика-шамана видеть?» — «Отчего же, можешь; но теперь его здесь нет, и когда он приедет, то мы скажем ему; да он и сам без нас придет к тебе».
Это обстоятельство, хотя чрезвычайно меня и удивило, но я все это оставил без внимания и стал готовить их к говению, предварительно объяснив им значение поста и проч., как явился ко мне этот старик-шаман и изъявил желание говеть, и ходил очень аккуратно, и я все таки не обращал на него особенного внимания и во время исповеди упустил даже спросить его, почему алеуты называют его шаманом. Приобщивши его Св. Таин, я отпустил его... И что же? к моему удивлению, он после причастия отправился к своему тоёну (старшине) и высказал ему свое неудовольствие на меня, а именно за то, что я не спросил его на исповеди, почему его алеуты называют шаманом, так как ему крайне неприятно носить такое название от своих собратий, и что он вовсе не шаман.
Тоён, конечно, передал мне неудовольствие старика Смиренникова, и я тотчас же послал за ним для объяснения; и когда посланные отправились, то Смиренников попался им навстречу со словами: «я знаю, что меня зовет священник о. Иоанн, и я иду к нему». Я стал подробно расспрашивать о его неудовольствии ко мне, о его жизни, — и на вопрос мой, грамотен ли он? — он ответил, что хотя он и неграмотен, но Евангелие и молитвы знает. Тогда я спросил его объяснения, почему он знает меня, что даже описал своим собратьям мою наружность, и откуда узнал, что я в известный день должен явиться к вам и что буду учить вас молиться. — Старик отвечал, что ему все это сказали двое его товарищей. — «Кто же эти двое твои товарищи?» спросил я его. — «Белые люди», ответил старик... — «Где же эти твои товарищи, белые люди, и что это за люди и какой они наружности?» — спросил я его. — «Они живут недалеко здесь в горах, и приходят ко мне каждый день», — и старик представил их мне так, как изображают святого архангела Гавриила, т. е. в белых одеждах и перепоясанных розовою лентою через плечо. — «Когда же явились к тебе эти белые люди в первый раз?» — «Они явились вскоре, как окрестил нас иеромонах Макарий». После сего разговора я спросил Смиренникова: а могу ли я их видеть? — «Я спрошу их», ответил старик и ушел от меня. Я же отправился на некоторое время на ближайшие острова для проповедания слова Божия, и по возвращении своем, увидав Смиренникова, спросил его: «Что же, ты спрашивал этих белых людей, могу ли я их видеть, и желают ли они принять меня?» — «Спрашивал, — отвечал старик, — они, хотя и изъявили желание видеть и принять тебя, но при этом сказали: зачем ему видеть нас, когда он сам учит вас тому, чему мы учим? — Так пойдем, я тебя приведу к ним».
Тогда что-то необъяснимое произошло во мне, какой-то страх напал на меня и полное смирение. Что ежели в самом деле, подумал я, увижу их, этих ангелов, и они подтвердят сказанное стариком? и как я пойду к ним? ведь я же человек грешный, следовательно и недостойный говорить с ними, и это было бы с моей стороны гордостью и самонадеянностью, если бы я решился идти к ним; и, наконец, свиданием моим с ангелами я, может быть, превознесся бы своею верою или возмечтал бы много о себе.... И я, как недостойный, решился не ходить к ним, — сделав предварительно по этому случаю приличное наставление как старику Смиренникову, так и его собратьям-алеутам, и чтобы они более не называли Смиренникова шаманом».
О. Иоанн Вениаминов весьма утешался усердием алеутов к слушанию слова Божия и исполнению заповедей. Редкие из них, при его посещении, уклонялись по лени или нерадению от говения и очищения совести, и так как их пища всегда одинакова, то они, чтобы отметить пост, в дни говения совсем ничего не ели. Во время богослужения они стояли внимательно и настолько неподвижно, что можно было по следам их ног узнать, сколько народу было в храме. Многие были большими молитвенниками, что часто обнаруживалось лишь случайно или при их кончине. К священникам питали преданность и любовь, и готовы были услужить им, чем могли. С распространением христианства стало прекращаться многоженство и внебрачное сожитие, а также убийство рабов при погребении знатных лиц. Даже ссоры и драки стали происходить редко, а междоусобия, сильно распространенные до этого, совсем прекратились.
Кроме своей паствы на островах о. Иоанн Вениаминов посетил также селение Нушегак на материке Америки, где в первое его посещение крестилось 13 человек, а во второй приезд количество уверовавших возросло до 220.
Но труды о. Иоанна не ограничивались чисто миссионерским поприщем. Мы уже говорили об усвоении о. Иоанном алеутского языка. В дальнейшем он перевел на алеутский язык катехизис и Евангелие от Матфея. Появление этих переводов алеуты встретили с большой радостью и стали усердно учиться грамоте. О. Иоанн Вениаминов составил и грамматику алеутского языка с приложением алеутских песен и таким образом познакомил ученый мир с неизвестным до того времени языком.
Кроме языка о. Иоанн усердно изучал быт своей паствы и вел наблюдения над природными явлениями тех мест. Результатом этого явилось сочинение «Записки об островах Уналашкинского отдела». Хорошо изучив фауну островов, о. Иоанн Вениаминов мог давать ценные указания даже русским промышленникам. Таковы, например, его советы относительно охоты за морскими котиками, направленные к сохранению и умножению стада этих ценных животных.
Сам о. Иоанн Вениаминов жил сначала в простой землянке, а потом перешел в скромный деревянный домик, выстроенный собственными руками. Свободное время о. Иоанн посвящал деланию органчиков, а также беседам и играм с детьми (своими и чужими), которых очень любил. Среди прочих занятии с ними, он приучал их наблюдать природу и объяснял им ее различные явления. Наконец, о. Иоанн открыл в Уналашке школу для мальчиков, где не только преподавал, но и составил сам все учебники.
За все труды в пользу миссии о. Иоанн Вениаминов был награжден наперсным крестом и переведен в Новоархангельск на остров Ситху — административный центр русских владений в Северной Америке.
На острове Ситхе о. Иоанну Вениаминову пришлось столкнуться с колошами — народом североамериканского (индейского) происхождения,
отличавшегося храбростью и независимым характером. О проповеди христианства среди колошей не могло быть и речи, так как ко всему исходившему от русских, колоши относились с подозрением.
О. Иоанн Вениаминов, прибыв на Ситху, занялся сначала изучением языка и обычаев колошей. Вскоре особенный случай изменил отношение колошей к русским. На острове появилась натуральная оспа, от которой колоши, отказывавшиеся принимать оспопрививание от русских, гибли в больших количествах. Между тем, русские и алеуты, которым оспа была привита, оставались невредимыми. Это заставило и колошей просить о помощи русских, на которых они с тех пор перестали смотреть, как на своих врагов. Тем самым открылась возможность проповеди и христианства. И хотя обращение колошей шло медленно, однако они относились к проповедникам с уважением и не препятствовали желающим креститься.
За время пребывания на Ситхе о. Иоанном Вениаминовым была написана книжка «Замечания о колошском и кадьякском языках и отчасти о прочих наречиях в Российско-Американских владениях», которая, как и грамматика алеутского языка, удостоилась лестных отзывов специалистов и внесла много нового в науку.
После пятнадцатилетнего пребывания в русских владениях Северной Америки о. Иоанн Вениаминов понял, что для дальнейшего успеха христианской проповеди среди туземцев необходимо расширить миссионерское дело и организовать постоянную миссию. Чтобы получить содействие Святейшего Синода, о. Иоанн решил лично отправиться в Петербург. Одновременно он хотел просить там разрешения печатать свои переводы на алеутский язык. 8 ноября 1838 г. о. Иоанн выехал в Петербург из Новоархангельска морем, предварительно отправив семью на родину в Иркутск.
Прибыв в Петербург, о. Иоанн Вениаминов своими рассказами живо заинтересовал членов Святейшего Синода и разных влиятельных лиц, которые оказали ему полное содействие. Святейший Синод постановил увеличить штат священно и церковнослужителей в американских владениях России и дал разрешение печатать переводы о. Иоанна. Особенно благоприятным было знакомство о. Иоанна с Московским Митрополитом Филаретом, который очень полюбил его и оказывал ему помощь до самой своей кончины.
Между тем о. Иоанн получил известие о кончине в Иркутске своей жены. Митрополит Филарет стал тогда склонять его к принятию монашества, но о. Иоанн долго колебался, ссылаясь на обремененность большой семьей и невозможность в миссионерских разъездах выполнять все требования монашеского устава. Однако когда, по ходатайству Митрополита Филарета, дочери о. Иоанна были помещены в институт, а сыновья в Петербургскую Духовную Академию на казенное содержание, то о. Иоанн, видя в этом указание Божие, подал прошение о пострижени в монашество. Постриг был совершен 29 ноября 1840 г. с наречением имени Иннокентия в честь Святителя Иркутского. На другой день иеромонах Иннокентий был возведен в сан архимандрита. А так как в это же время состоялось восстановление самостоятельной Камчатской епархии, то наиболее достойным кандидатом для ее занятия был признан архимандрит Иннокентий. Его посвящение во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского состоялось в Петербурге 15 декабря 1840 г. А 20 января следующего года новопоставленный епископ выехал из Петербурга в свою епархию, совершая на этот раз путь через Сибирь, и 27 сентября 1841 г. прибыл в Новоархангельск.
Вернувшись в Америку, епископ Иннокентий продолжал свою миссионерскую работу. Его епархия была чрезвычайно обширной и обнимала многочисленные народы, жившие на американском материке, Алеутских и Курильских островах, на Камчатке и на всем побережье Охотского моря. Конечно, всюду бывать лично епископ Иннокентий на такой территории не мог, и его непосредственная деятельность сосредоточилась в Новоархангельске. Однако значительную часть времени он все же проводил в разъездах, посещая свою епархию и проверяя работу миссионеров. Ввиду огромных расстояний такие поездки продолжались иногда около года и больше и были сопряжены с огромными трудностями.
Но все это с избытком окупалось той духовной пользой, которую приносили пастве посещения епископа. В своих отчетах он неизменно отмечает, как радовались туземцы его посещениям, которые были для «их настоящим праздником. В местах, регулярно посещавшихся миссионерами, население особенно ревностно исполняло все их наставления. Случаев отпадения или возвращения к шаманству почти не бывало, если же они происходили, то скоро оканчивались раскаянием и исправлением.
Обращения туземцев также шли успешно и почти без всяких настояний миссионеров; напротив, искавшие крещения подвергались самому строгому испытанию. Особенно утешительными были обращения тех, кто сначала не хотел веровать, но затем сам являлся и умолял о крещении.
Бывали случаи и чудесного исцеления после крещения. Так, одна старуха, которая была при смерти и для крещения была принесена на носилках, после крещения вернулась домой самостоятельно, только опираясь на палку. Точно так же один молодой мужчина, с детства страдавший припадками безумия, после крещения совершенно исцелился. Нечего говорить, что подобные случаи, свидетельствуя о божественной силе христианства, особенно способствовали обращению туземцев.
Помимо проповеди и наставлений в законе Божием, епископ Иннокентий предписывал миссионерам учить детей и всех желающих грамоте как на местном, так и на русском языке, что население делало очень охотно, и вскоре грамотность туземного населения стала даже выше, чем грамотность населения коренной России. Об этой просветительной деятельности Церкви в русских владениях в Америке вот что говорится в одной из новых книг, посвященных Аляске:
«Русская Церковь выполнила огромную задачу на Аляске, посколько в ее руках находилось все дело народного образования. В миссионерских школах обучались грамоте тысячи обитателей Аляски, причем для туземцев начальное обучение было обязательным... О том, как любили на Аляске русскую книгу, дает представление такой случай.
Известный русский книгоноша И. К. Голубев однажды отправился через Камчатку в Сан-Франциско и на Аляску. Во время своего путешествия он распространил 18709 книг. Какая российская губерния могла в то время поглотить такое количество печатных изданий? В отчете Голубева говорится только о книгах. А сколько он распространил других изданий, хотя бы лубочных картин, календарей и т. д.!» (С. Марков. «Летопись Аляски», 2-е изд. М. — Л. 1948, стр. 177).
Благотворное влияние Церкви на туземцев и их тяготение к России отмечалось даже в американском парламенте уже после того, как наши американские владения отошли к Соединенным Штатам. Во время прений один из депутатов обвинял свое правительство, что «оно ничего еще не сделало для нравственнного и морального блага этого края. Не так поступало, — сказал он, — русское правительство и русское духовенство:
из дикарей они сделали христиан, из невежд — образованных; они строили церкви, основывали школы и до оих пор еще лучи христианского света доходят до Аляски не из Вашингтона, а к стыду нашему, из Петербурга и из Москвы».
За свою плодотворную миссионерскую деятельность среди народов далекой окраины России епископ Иннокентий в 1850 г. был возведен в сан архиепископа.
Во время своих путешествий по материку Азии архиепископ Иннокентий бывал также и у якутов и тунгусов, входивших в состав Иркутской епархии, но за отдаленностью никогда не посещавшихся своими архипастырями. Архиепископ Иннокентий был знаком с этими народами еще с детства, когда он сталкивался с ними у себя на родине в селе Ангинском и в Иркутске. Результатом его попечений об этих народах Якутская область была отчислена от Иркутской епархии и присоединена к Камчатской. В связи с этим архиепископ Иннокентий вскоре перенес свое постоянное местопребывание в Якутск.
Новые миссионерские труды предстояли здесь архиепископу Иннокентию. Якуты, принимая крещение, главным образом, из-за подарков и некоторых льгот оставались почти в полном неведении христианства и, вследствие редкого посещения их священниками, часто сохраняли прежние языческие верования и обычаи. Верный своим принципам, архиепископ Иннокентий принялся немедленно за просвещение страны, открывая храмы и часовни и переводя на якутский язык священные и богослужебные книги, для чего им была организована специальная комиссия. Несмотря на трудности этого перевода, Комиссия успешно справилась со своей задачей, и 19 июля 1859 г. в Якутском Троицком соборе было впервые совершено богослужение на якутском языке. Понятно, что это событие якуты встретили, как настоящий праздник, а самый перевод очень облегчил дальнейшее просвещение якутов, которые охотно стали учиться грамоте на родном языке. Кроме якутского, одновременно делались переводы и на тунгусский язык, грамматика которого также была составлена.
Миссионерское рвение архиепископа Иннокентия простиралось и на более отдаленные народы, живущие по Амуру и даже за границей Китая, где оказывались люди, слышавшие христианскую проповедь и выражавшие желание креститься. Как человек, преданный своей Родине и близко принимавший к сердцу ее интересы и величие, архиепископ Иннокентий проявил большую заботу о благоприятном для России разрешении Амурского вопроса. Для этого он сам совершил путешествие по Амуру и составил подробную записку «Нечто об Амуре», в которой, на основании личных наблюдений и опросов, решает вопрос о необходимости Амура для России и о возможности как навигации по Амуру, так и заселения его берегов. В качестве миссионера архиепископ Иннокентий назначил в эти места своего сына, священника Гавриила Вениаминова.
В 1854 г., во время нападения англичан (в связи с Крымской войной) на наши дальневосточные владения, архиепископ Иннокентий отправился на Амур через Аян, захваченный англичанами. А когда те хотели взять его в плен, он убедил их, что пользы им от этого не будет, что они понесут только ущерб, так как принуждены будут кормить его. Поэтому англичане не только оставили его в покое, но даже освободили захваченного ими перед этим одного священника. За содействие архиепископа Иннокентия делу присоединения Амура к России в его честь был назван город Благовещенск — в память начала его священнослужения в Благовещенской церкви г. Иркутска.
Вследствие обширности епархии и преклонных лет, архиепископ Иннокентий не мог уже посещать свою паству, и потому, во время
своего присутствия в Святейшем Синоде, испросил разрешение на открытие викариатств на Ситхе и в Якутске, оставив себе Камчатку. Но свою деятельность он сосредоточил в Благовещенске на Амуре, куда и перенес кафедру. Посетив Камчатку в последний раз уже в 65-летнем возрасте, архиепископ Иннокентий совершил свое последнее путешествие по Амуру, когда ему было 70 лет. Сообщение о продаже русских владений в Америке Соединенным Штатам наполнило его сердце заботой о дальнейшем существовании там миссии и материальном обеспечении тамошнего духовенства.
Несмотря на бодрость и энергию архиепископа Иннокентия, его годы все же давали себя чувствовать. Кроме того однажды по дороге из Аяна в Якутск он сильно ушиб бок о камень, когда его повозка опрокинулась, в другой раз он вместе с повозкой попал в полынью и промок в холодной воде. Это случилось, когда архиепископу Иннокентию было почти 60 лет, и с этого времени в его письмах начали появляться жалобы на нездоровье. К тому же он начал постепенно терять зрение. Все это побуждало его уйти на покой, о чем он писал и Митрополиту Филарету, прося его дать приют в своей епархии.
Но не к отдохновению от трудов, а к новой деятельности готовил архиепископа Иннокентия Промысл Божий. 19 ноября 1867 г. скончался Московский Митрополит Филарет и преемником его был назначен архиепископ Иннокентий. После усердной молитвы, с преданностью воле Божией, принял архиепископ Иннокентий это назначение, и вскоре, простившись со своей паствой, отправился в Москву, куда и прибыл 26 мая 1868 г.
Но и здесь, будучи Московским Митрополитом, Иннокентий остался верен своему миссионерскому призванию, и во время присутствий в Святейшем Синоде, много заботился о помощи миссионерскому делу. Главной его заботой было наставление народа в основных истинах христианской веры и нравственности, для чего, как в Сибири и в Америке, им были рекомендованы беседы священников со своими прихожанами. А его непосредственная помощь миссионерскому делу выразилась в учреждении миссионерского общества с целью проповеди Евангелия на окраинах России. Открытое в Москве, в январе 1870 г., миссионерское общество встретило большое сочувствие во всех уголках нашей Родины, что выразилось в открытии многих епархиальных комитетов на местах.
Болезнь глаз, от которой Митрополит Иннокентий страдал еще в Сибири, привела его, в конце концов, к почти полной потере зрения. Тяготясь своей слепотой, Митрополит Иннокентий дважды ходатайствовал об увольнении на покой. Однако просьбы его были отклонены.
С некоторого времени ему пришлось отказаться от личных поездок по епархии, которые теперь за Митрополита совершались его викариями.
С середины 1878 года Митрополит Иннокентий почти непрерывно хворал и даже отменил в конце того же года поездку в Петербург для присутствия в Святейшем Синоде. На Страстной неделе, почувствовав приближение кончины, он просил его пособоровать. Последний раз приобщался в Великий Четверг. Скончался он в Великую Субботу, 31 марта 1879 года. Перед кончиной просил, чтобы при его погребении никаких речей не было, и чтобы лишь его викарий, Преосвященный Амвросий (позднее епископ Харьковский), сказал слово на текст: «От Господа стопы человеку исправляются» (Пс. 36, 23). Этими словами псалма, лучше всего выражающими жизнь Митрополита Иннокентия, мы и закончим его жизнеописание.
В. Алексеев