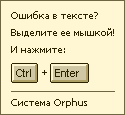ИДЕЯ ЦЕРКВИ В СОЧИНЕНИЯХ А. С. ХОМЯКОВА
(К 150-летию со дня рождения)
I
Мы вспоминаем Алексея Степановича Хомякова в связи с исполнившимся в мае этого года 150-летием со дня его рождения. Но это воспоминание не является единственным поводом к написанию данной статьи. Она не ставит своей целью и характеристики А. С. Хомякова, как богослова, не претендует и на оценку его духовного наследия, но берет из него ту часть, которая может, по нашему мнению, послужить ответом на экуменические искания современного христианского Запада.
Конечную цель этих исканий составляет единство христианского мира или воссоединение всех христиан в Церкви Христовой и потому экклезиологическая проблема стоит в центре экуменического движения. Она, разумеется, не может быть решена путем критического сопоставления различных учений о Церкви, как это пытаются делать экуменические богословы. Решить эту проблему можно только действительным вхождением в Единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Но метод, которым А. С. Хомяков раскрывает идею Церкви, представляется полезным в том смысле, что позволяет ищущим церковного единства христианам приблизиться к православному пониманию церковности и уяснить его несовместимость с экуменической экклезиологией.
Необходимо заметить, что при изложении богословствования А. С. Хомякова о Церкви мы, по недостатку времени, оставляем без критического рассмотрения некоторые спорные стороны и оттенки его системы, вызывавшие в свое время противоречивые суждения наших богословов, и ограничиваем свою задачу одной целью: привлечь мысли Хомякова к обсуждению экклезиологической проблемы и тем самым почтить его память.
II
Деятельность Хомякова была чрезвычайно разносторонней. Он был и поэтом, и публицистом, и философом, и богословом. Но каких бы вопросов ни касался он в своем литературном творчестве, о чем бы ни писал в своих стихах, статьях, письмах или научно-философских трактатах, все его произведения посвящены защите одной идеи, проникнуты одним духом — духом православной церковности. Поэтому изучение богословских произведений Хомякова имеет особое значение для понимания мировоззрения этого замечательного мыслителя. Тем больший интерес имеют эти произведения для самой богословской науки, так как благодаря глубине заключенных в них умозрений, оригинальности взглядов, своеобразию метода и литературной формы они оказали глубокое влияние на развитие русской богословской мысли.
Новизна и оригинальность взглядов Хомякова, конечно, не могут разуметься в абсолютном смысле, ибо христианское вероучение не принадлежит к числу наук, развитие которых заключается в нахождении новых фактов и явлений или открытии новых законов, управляющих этими явлениями. Истины христианства — догматы — изначала даны нам в Божественном откровении, хранимом Церковью, и задача богословия заключается в том, чтобы дать этим Богооткровенным истинам логическую формулировку. Поэтому «апостол проповедание и отец догматы Церкви едину веру запечатлеша» [1]. Своеобразие же мысли отдельных богословов и богословских школ заключается вовсе не в открытии новых истин, ранее неизвестных Церкви, а 1) в выборе из сокровищницы церковного опыта того предмета исследования, который наиболее отвечает потребностям времени; 2) в новизне постановки вопросов, касающихся избранного предмета; 3) в своеобразии метода его исследования; 4) в нахождении правильной логической формулировки для выражения тех элементов духовного опыта Церкви, которые соответствуют избранному богословом предмету исследования и отвечают на поставленные им вопросы.
С этих четырех точек зрения мы и предполагаем проанализировать богословские воззрения Хомякова, тем более, что это вполне отвечает его собственным взглядам на развитие богословской науки и значение богословствования в этом развитии. «Тайны Божии, — говорит об этом Хомяков, — открыты нам от начала. Что же после этого значит вся последующая работа, та, которая продолжается и в наши дни, будет продолжаться во все века и которую историки нашего времени называют крайне неточно развитием?» (237) [2]. «Развитие это состоит в том, что на протяжении веков слово Церкви видоизменяется в свидетельство бесконечности идеи» (там же). Христианское учение есть «приблизительное выражение истины Божией, постоянно созерцаемой и уразумеваемой внутренним смыслом сынов Церкви. Истина пребывает неизменною во все века; познание ее не изменяется, но выражение ее, по самому существу всегда недостаточное, не может не видоизменяться сообразно с развитием аналитического слововыражения и с характером умственных приемов каждой эпохи. Отдельные лица свободно вносят в общий труд дань своих более или менее удачных усилий; Церковь принимает или отвергает эту дань, не осуждая отдельных лиц, хотя бы они заблуждались, если только труды их действительно добросовестны и если они приносят добытое ими смирение, без диктаторских приемов и не насилуя совести братьев» (240—241).
Посмотрим теперь, какое же место в этом процессе занимают богословские труды самого Хомякова, какова та дань, которую он внес в общий труд построения церковного учения?
III
Для всякого, кто знаком с богословскими трудами Хомякова, должно быть ясно, что основным, если не единственным, предметом богословских исследований его всегда была и оставалась Церковь; основная тема его богословствования — догмат о Церкви. Для выбора именно этой темы у него были достаточно серьезные основания как внешние, так и внутренние.
«Как откровение Божественной истины на земле, — писал Хомяков в начале своей первой брошюры «Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях», — будучи предназначена, по самому существу своему, сделаться общим отечеством для всех людей, Церковь ни одному из чад своих не разрешает молчания перед клеветою, против нее направленною и клонящуюся к извращению ее догматов или ее начала... В силу этих соображений берусь и я за перо, чтобы отвечать перед иностранными читателями и на чуждом для меня языке на несправедливое обвинение, направленное против Вселенской и Православной Церкви (32—33).
Итак, защита Православия перед лицом западного христианского мира — вот то внешнее основание, которое побуждало Хомякова выступить со своей апологией Церкви.
Наряду с этим внешним основанием, коренившимся в исторически сложившихся отношениях между Православной Церковью и западным христианством, были еще и внутренние основания, вытекавшие из характера нравственной личности самого Хомякова, которые побуждали его выступить апологетом православной идеи церковности против непонимания и клеветы, возводившейся на нее представителями западных исповеданий.
Человек, взявший на себя задачу защиты Православия перед лицом Запада, должен был сочетать в себе подлинную церковность с чувством внутренней свободы, которая давала бы ему право и возможность спокойно с открытыми глазами глядеть в лицо любому заблуждению и соблазну.
Таким именно человеком и был А. С. Хомяков. Ближайший друг его и издатель его сочинений Ю. Ф. Самарин так характеризует нравственный облик Хомякова: «Отличительная, характерная его особенность заключалась.... в цельности и сосредоточенности... В этом отношении Хомяков представляется личностью у нас в своем роде единственною, единственною и по единству мышления и хотения, что всегда и везде встречается редко и составляет принадлежность особенно энергических натур. В чем же именно объединялись у него ум и воля и как ближе определить эту отличительную черту Хомякова? На этот вопрос можно ответить тремя словами: Хомяков жил в Церкви... Он в ней жил не по временам, не урывками, а всегда и постоянно, от раннего детства и до той минуты, когда он покорно, бесстрашно и непостыдно встретил посланного к нему ангела-разрушителя. Церковь была для него живым средоточием, из которого исходили и к которому возвращались все его помыслы; он стоял перед ее лицом и по ее закону творил над самим собою внутренний суд; всем, что было для него дорогого, он не дорожил по отношению к ней; ей служил, ее оборонял, к ней прочищал дорогу от заблуждений и предубеждений, всем ее радостям радовался, всеми ее стремлениями болел внутренно, глубоко, всею душою. Да, он в ней жил, — другого выражения мы не подберем» (X и XII).
Так, живя в Церкви, как русский православный христианин, Хомяков приобщался к тому руслу подлинной православной церковности, которое связывало его с традициями святоотеческого опытного богословия, питавшего его веру и мысль, и давало ему возможность быть представителем и защитником Православия перед лицом западных христианских исповеданий.
IV
Мы показали, что основной темой богословствования Хомякова было раскрытие догмата о Церкви и защита его от нападок со стороны представителей западного христианства. В чем же своеобразие и новизна именно хомяковской постановки вопроса о Церкви и каковы особенности того метода, которым он пользуется при разработке этого вопроса?
Что касается до постановки вопроса о Церкви у Хомякова, то новизна и своеобразие его заключаются прежде всего в том, что он совершенно отказывается от полемики с представителями латинского и протестантского богословия по отдельным, изолированным вопросам вероучения или обряда, но ставит перед собою задачу отыскать источник заблуждений западных исповеданий и противопоставить ему коренной принцип Православия.
Хомяков совершенно правильно утверждает, что в истории догматов православное определение той или иной догматической истины всегда развивалось и выковывалось в борьбе с ересями и заблуждениями. Так, догмат Троичности был разработан в борьбе с арианством и савеллианством, христологический догмат — в борьбе с несторианством, монофизитством и монофелитством и т. д. Из этого, естественно, вытекает вопрос, против какого из догматов Церкви в особенности погрешают западные исповедания и имеются ли в их вероучении вообще какие-либо догматические погрешности, иными словами — следует ли их учения считать ересью или расколом?
На этот вопрос Хомяков отвечает со всею решительностью: да, и протестантство и латинство являются не простым расколом, а ересью, и притом ересью, прежде всего, против догмата о Церкви, именно против учения о ее единстве и соборности.
«Романизм, — говорит Хомяков, — начал с того, что поставил независимость личного или областного мнения выше вселенского единоверия... Романизм первый создал ересь нового рода, ересь против догмата о существе Церкви, против ее веры в самое себя; реформа была только продолжением той же ереси, под другим видом (66).
Все догматические заблуждения латинства, в том числе и учение об исхождении Святого Духа «от Отца и Сына», Хомяков считает вытекающими из искажения догмата о Церкви. Особенный интерес представляет в этом случае его аргументация против учения о Filioque.
Хомяков не отрицает, что Святой Дух исходит и от Сына, только это «исхождение» характеризует не внутренние отношения между Лицами Пресвятой Троицы (в этом порядке Святой Дух исходит только от Отца), а Его явление ad extra. Разорвав свою связь с Церковью, латинство утратило способность духовного созерцания истин веры и тайны Святой Троицы. «Отрекшийся от духа любви и лишивший себя даров благодати не может уже иметь внутреннего знания, то есть веры, но ограничивает себя знанием внешним: посему и знать он может только внешнее (то есть, что является ad extra. — А. В.), а не внутренние тайны Божии» (11).
Здесь мы вплотную подошли к вопросу о богословском методе Хомякова. Характеризуя латинство и протестантизм, как ереси против догмата о Церкви, Хомяков утверждает, что истоком этой ереси является отделение «логического начала знания, выражающегося в изложении символа» от «нравственного начала любви, выражающегося в единодушии Церкви». Последствием такого отделения логического начала от нравственного является господство в области вероучения отвлеченного рационализма, одинаково свойственного обоим западным исповеданиям.
Поэтому исходным положением учения Хомякова о методе богословия является отрицание рационализма, который, оторвавшись от единения с Церковью, тщетно пытается обосновать свою веру на шатком основании внешних доказательств. «Всякий, ищущий доказательств церковной истины, тем самым или показывает свое сомнение и исключает себя из Церкви, или дает себе вид сомневающегося, и в то же время сохраняет надежду доказать истину и дойти до нее собственною силою разума; но силы разума не доходят до истины Божией, и бессилие человеческое делается явным в бессилии доказательств» (7).
Это справедливо не только по отношению к системе чисто рациональных доказательств, но также и к доказательствам «от Писания» или «Предания», потому что и Писание, и Предание, сами по себе, помимо Церкви, которая глаголет в Писании и хранит Предание, есть нечто внешнее, «внутреннее же в них есть один Дух Божий» (7). «Принимающий одно Писание и на нем одном основывающий Церковь, действительно отвергает Церковь и надеется создать ее снова собственными силами» (7).
Если разум, оторванный от нравственного начала любви, не может привести человека к истине, не может обосновать догматов веры и раскрыть их смысл, то что же является для человека таким источником и где путь, приводящий его к этому источнику? На этот вопрос Хомяков отвечает своим учением о вере, как внутреннем знании, в его противоположности знанию внешнему.
Рационализм не может привести человека к вере, самое большее, что он способен дать человеку, это — субъективное убеждение или, как называет его Хомяков, «верование» (croyonce). Вера же есть всегда дар благодати Божией. «Отрекшийся от духа любви и лишивший себя даров благодати не может уже иметь внутреннего знания, то есть веры, но ограничивает себя знанием внешним» (11).
Предметом такого внешнего знания может быть только мир внешний, мир явлений, в котором все подчинено закономерностям, управляющим природой и человеческим обществом. Обладающий внешним знанием не может вырваться за пределы этого эмпирического мира в тот мир, где открываются тайны Божества, «знать он может только внешнее, а не внутренние тайны Божии» (11).
Если мы сделаем попытку воспользоваться методами знания внешнего для постижения мира Божественного, нас неизбежно должна постигнуть неудача, ибо путь этот ведет к извращению догмата, к заблуждению, к ереси, как это было показано Хомяковым на примере западного учения об исхождении Святого Духа.
Что же должен сделать человек, чтобы разорвать связывающие его пути рационализма, где путь, приводящий его к постижению «мира Божественного»? Если заблуждение, ересь начались с «поставления своего личного или областного мнения (верования) выше вселенского единоверия», то обратный путь, Путь православного богословия, «исходное начало исследования (мира Божественного) — в смиренном признаний собственной немощи» (62) и возвращение к «вселенскому единоверию» Церкви. Только вступившему на этот путь открываются тайны веры: «Есть же вера уповаемых извещение, вещей обличение невидимых» (Евр. 11, 1).
Замечательное по своей глубине толкование этих слов св. апостола Павла дает Хомяков своим учением о вере. «Вера всегда есть следствие откровения, опознанного как откровение»; она есть созерцание факта невидимого, проявленного в факте видимом; вера не то, что верование или убеждение логическое, основанное на выводах, а гораздо более. Она не есть акт одной познавательной способности, отрешенной от других, но акт всех сил разума, охваченного и плененного до последней его глубины живою истиною откровенного факта. Вера не только мыслится или чувствуется, но, так сказать, и мыслится и чувствуется вместе; словом — она не одно познание, но познание и жизнь» (61).
При этом, по убеждению Хомякова, вера есть всегда вера Церкви, ибо только Церкви дано откровение, только Церковь есть «столп и утверждение истины», потому что «там лишь истина, где беспорочная святость, то есть в целости Вселенской Церкви, которая есть проявление Духа Божьего в человечестве» (63).
Церковь не только содержит веру, но и исповедует ее «всею жизнию своею: учением, которое внушается Духом Святым, таинствами, в которых действует Дух Святый, и обрядами, которыми он же управляет» (9). «Сие исповедание постижимо, так же, как и вся жизнь духа, только верующему и члену Церкви. Оно содержит в себе тайны, недоступные пытливому разуму и открытые только Самому Богу и тем, кому Бог их открывает для внутреннего и живого, а не мертвого и внешнего познания» (10).
В числе других тайн Божиих, которые открываются живой вере человека, живущего в Церкви, и которые входят в исповедание ее веры, «исповедует Церковь и свою веру в самое себя... В сем исповедании она показывает, что знание об ее существовании есть также дар благодати, даруемой свыше и доступной только вере, а не разуму» (11—12). Из этого следует, что православный богослов, желающий исследовать догмат о Церкви, не может довольствоваться внешними знаниями и логическими определениями, хотя бы эти знания и определения и основывались на текстах Священного Писания; он должен прежде всего жить в Церкви и исповедовать вместе с ней ее веру в самое себя.
Такова первая и необходимейшая предпосылка богословского исследования и метода, но это еще не само исследование и не сам метод. «Процесс исследования, в применении его к вопросам веры... всецело отличается от исследования в обыкновенном значении этого слова... Исследование в области веры предполагает некоторые основные данные, нравственные или рациональные, стоящие для души выше всякого сомнения. В сущности исследование есть не что иное, как процесс разумного раскрытия этих данных (61—62).
Такое разумное раскрытие может быть осуществлено только в слове и понятии. В этом отношении оно сходно со всяким познавательным процессом, который всегда фиксирует в слове и понятии какие-то изначальные, предшествующие всякому знанию опытные данные.
Но самый процесс этой фиксации в применении к предметам эмпирическим принципиально отличен от того же процесса, когда она применяется к истинам веры. Различие это обосновывается на различии самого опыта, который получает свое разумное раскрытие в словах и понятиях.
Процесс образования понятий о предметах мира эмпирического всегда состоит в обобщении наблюдаемых явлений, отнесении их к какому-то роду, общему изучаемому явлению с другими явлениями, и нахождении его видовых признаков, отличающих его от других явлений того же рода. На этом принципе построены все математические определения; он же положен в основу классификации в различных отраслях естествознания.
В отношении истин веры, которые являются предметом богословия, принцип этот совершенно неприменим, и величайшая заслуга Хомякова, как православного богослова, заключается, между прочим, в обосновании и раскрытии этой своеобразной «логики богословия». К миру Божественному, о котором говорит богословие, не применимы логические совпадения родов и видов, не применимы, следовательно, и формальные логические методы определения и классификации. «Сами по себе Бог и Божественное невыразимы, — говорит об этом Хомяков, — слово человеческое не в состоянии ни определить, ни описать их, оно может только возбудить в разуме, то есть в мире человеческом, мысль или порядок мыслей, соответственный реальности мира Божественного... Человеческое слово есть только знак, более или менее условный, смысл которого изменяется не только по языкам, наречиям и эпохам, но и по мере развития науки и умственной жизни людей в вещах человеческих» (236, 237). Как и всякий знак, слова эти указывают на определенную реальность, в данном случае на реальность мира Божественного, поэтому и понятны они могут быть «только для того, чья собственная жизнь находится в согласии с реальностию этого мира» (236).
Свою мысль Хомяков иллюстрирует на примере. «Если бы таинственное и приснопокланяемое имя «Сын Божий» обнимало во всей полноте христианскую идею о Том, Кто воплотился ради нашего спасения, то к чему бы придавать Ему еще другое Божественное имя «Вечного Слова?» (237). Наряду с этими двумя именами, в Слове Божием мы находим еще и иные, как-то: «Образ Отца», «Сияние Славы Его» и другие подобные. Ни одно из этих слов не выражает во всей полноте сущность Божественной жизни Второго Лица Пресвятой Троицы, но все они служат цели, предположенной Церковью — «уяснить Божественный мир наведением, заимствованным из видимого мира или из действий человеческого разума» (239).
Таким образом, по учению Хомякова, процесс разумного раскрытия истин веры заключается не столько в образовании понятий и построении формально-логических определений, сколько в построении образов-символов, подводящих человека к созерцанию мира Божественного. «Все слова наши, если смею так выразиться, суть не свет Христов, а только тень его на земле. Блаженны те, которым дано, созерцая эту тень на полях Иудеи, угадывать небесный свет Фавора. Этот свет постоянно светит для Церкви, но открывается не иначе, как сквозь тень вещества» (238).
V
Мы последовали за Хомяковым в его критике латино-протестантско го рационализма и попытались раскрыть его учение об источниках и методе богословия. Как видно, учение его не является новым, но есть старое, хорошо известное Церкви (см., например, сочинения, приписываемые священномученику Дионисию Ареопагиту), только ко времени Хомякова основательно забытое западным богословием. Именно поэтому оно и прозвучало как «новое» или, во всяком случае, как вполне своевременное слово.
Но Хомяков в своих сочинениях не только обосновал подлинно православный опытный метод в богословии, но вместе с тем дал замечательный образец применения этого метода в построении учения о Церкви.
В начале своего «Опыта катехизического изложения учения о Церкви» Хомяков дает такое ее определение: «Церковь не есть множество лиц в их личной отдельности, но единство Божией благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати» (3).
В этом определении две стороны: отрицательная и положительная. В первой части определения Хомяков говорит о том, что не есть Церковь, во второй раскрывает положительное содержание этого понятия. Такое построение имеет свой определенный логический и гносеологический смысл.
Прежде чем говорить о реальности Церкви и о ее Божественной жизни, Хомякову нужно как бы оттолкнуться от соблазна формальнологического определения ее эмпирической данности. В самом деле, если сформулировать первую часть определения в положительной форме («Церковь есть множество отдельных лиц, которые...»), то мы сможем иметь подлинное формально-логическое определение Церкви «по ближайшему роду и видовому признаку», стоит лишь подобрать к имеющемуся уже ближайшему роду соответствующий видовой признак. При этом самое понятие о Церкви будет низведено из области богословия в область социологии, юриспруденции, или какой-либо другой эмпирической науки.
Но Хомяков не хочет подбирать «видовых признаков», он отталкивается от самой возможности формально-логического определения и решительно говорит: «Церковь не есть множество лиц в их отдельности». Этим он выводит обсуждение вопроса из области эмпирической в совершенно иную сферу реальности. Нам думается, что смысл этого отрицания аналогичен тому, с которым мы встречаемся при определениях Божества в терминах апофатического богословия.
Отрицание это не случайно для Хомякова, он неоднократно возвращается к нему, пользуясь им в различных формах для критики католического или протестантского учения о Церкви. Так, в первом письме к Пальмеру, по поводу возможности соединения Англиканской Церкви с Католической, он пишет: «Церковь в составе своем не есть государство, она не имеет ничего общего с государственными учреждениями и потому не может допустить ничего похожего па условное соединение. Римская Церковь — дело другое: она государство и легко допускает возможность союза, даже при глубоком разногласии в учении» (321).
Нетрудно заметить, что в утверждении «Церковь не есть государство» Хомяков только видоизменяет свою первоначальную мысль о том, что Церковь не есть «множество лиц в их личной отдельности», потому что для него государство и есть такое «множество лиц», только объединенных в условный союз. Хомяков совершенно уверен в том, что всякое объединение множества отдельных людей, на какой бы почве оно ни возникало, не уничтожает изначальной разобщенности элементов, входящих в состав этого множества. «Песчинка, действительно, не получает нового бытия от груды, в которую забросил ее случай: таков человек в протестантстве. Кирпич, уложенный в стене, нисколько не изменяется и не улучшается от места, назначенного ему наугольником каменщика: таков человек в романизме» (112).
Показав в первой части своего определения, что не есть Церковь, Хомяков переходит к раскрытию положительного содержания этого понятия. «Церковь, — говорит он, — есть единство Божией благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати».
Определяя Церковь, как единство Божией благодати, Хомяков, прежде всего, подчеркивает, что, говоря о Церкви, мы выходим за пределы человеческого мира в иную, высшую сферу реальности, в область Божественной жизни. Однако эта Божественная жизнь дана здесь не в отношении к Себе Самой, а как благодать, то есть как дар благости Божией, изливающейся на «множество разумных творений».
Это же самое множество, от которого Хомяков только что оттолкнулся в первой части своего определения, только теперь, соединившись с Божественной благодатью, утратило свою изначальную разобщенность. Последними словами своего определения «покоряющихся благодати» Хомяков подчеркивает свободный характер этого приобщения к Божественной жизни.
Итак, жизнь Церкви есть жизнь благодати Божией в свободно покорившихся разумных творениях и жизнь этих свободно покорившихся Богу разумных творений в единении с Божественной благодатью, иными словами, жизнь Церкви есть Богочеловеческая жизнь.
Для характеристики этой новой реальности и этого единения между Божественным и человеческим началом в ней Хомяков, в качестве аналогии, использует термины и понятия, заимствованные из жизни органической природы. Церковь, по его учению, есть не организация и не учреждение человеческое, но Богочеловеческий организм. «Всякая частица вещества, усвоенная живым телом, делается неотъемлемою частью его организма и сама получает от него новый смысл и новую жизнь: таков человек в Церкви, в Теле Христовом, органическое основание которого есть любовь» (112).
В другом месте Хомяков более полно и подробно развивает эту мысль: «В Своей правде и в Своей милости Бог изволил, чтобы точно так же, как единственное нравственное существо, Христос, силою безграничной Своей любви принял на Себя человеческие грехи и справедливую за них казнь, мог и человек силою своей веры и своей любви к Спасителю отрекаться от своей личности, личности греховной и злой, и облекаться в святость и совершенство Своего Спасителя. Соединенный таким образом со Христом, человек уже не то, чем он был, не одинокая личность; он стал членом Церкви, которая есть Тело Христово, и жизнь его стала нераздельною частью высшей жизни, которой она свободно себя подчинила. Спаситель живет в Своей Церкви, Он живет в нас. Он ходатайствуем, а мы молимся; Он поручает нас благости Божией, а мы взаимно друг друга поручаем своему Творцу; Он предлагает Себя в вечную жертву, а мы приносим Отцу эту жертву прославления, благодарения и умилостивления за нас самих и за всех наших братьев, как тех, которые пребывают еще в опасностях земной борьбы, так и тех, которых смерть привела уже в тихое, возносительное движение небесного блаженства... В нашей молитве нет места ни для вопросов, ни для сомнений... Мы молимся потому, что не можем не молиться, и эта молитва всех о каждом и каждого о всех, постоянно испрашиваемая и постоянно даруемая, умоляющая и торжествующая в то же время, всегда во имя Христа, нашего Спасителя, обращаемая к Его Отцу и Богу, есть как бы кровь, обращающаяся в теле Церкви; она ее жизнь и выражение ее жизни, она глагол ее любви, вечное дыхание Духа Божия» (119—121).
Приведенный отрывок является во всем богословском творчестве Хомякова, пожалуй, самым глубоким и конкретным раскрытием идеи Церкви, и это, думается нам, потому, что в нем положено учение «единое истинное, единое непререкаемое для самой строгой логики, а между тем далеко превосходящее логику человеческую, единое удовлетворяющее вполне самым живым потребностям сердца» (121), учение, бывшее во все времена со дней апостольских, учением Церкви — учение о Церкви, как о Теле Христовом. Учение это впервые было раскрыто святым апостолом Павлом (1 Кор. 12, 12, 27).
Надо только отметить, что, говоря о Церкви, как о Теле Христовом, мы пользуемся не простой аналогией, а подразумеваем видимую Церковь, члены которой присоединены к ней святым крещением, веруют в учение Господа Иисуса Христа и исполняют Его заповеди. Эта Церковь таинственно, но действительно одушевляется Духом Святым и, возглавляемая Самим Спасителем, представляет собою живой Богочеловеческий организм, члены которого соединяются с Главою Христом Его Честною Кровию в таинстве Евхаристии. Поэтому учение о единении Христа и Церкви в любви должно быть дополнено учением об евхаристическом единстве Христа с Церковью.
VI
К учению о сущности Церкви, как Богочеловеческого организма, у Хомякова непосредственно примыкает раскрытие смысла тех основных признаков Церкви, которые содержатся в Никео-Цареградском Символе веры.
«Верую во Едину, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь», читаем мы в 9-м члене Символа веры. Из четырех определений Символа Хомяков особенно подробно останавливается на первом и третьем, именно на «единстве» и «соборности» Церкви, так как именно они дают ему наиболее сильные аргументы в его полемике против западных исповеданий.
«Свобода и единство, — говорит Хомяков, — таковы две силы, которым достойно вручена тайна свободы человеческой во Христе, спасающем и оправдывающем тварь через Свое полное единение с нею» (224). Оторванные друг от друга, эти две силы превращаются в два отвлеченных принципа, которые непрерывно борются друг с другом и с породившей их изначальной силой Божественной любви. Единство без свободы неизбежно вырождается во внешний, принудительный авторитет — таков исторический принцип латинства; свобода без единства, выражающаяся в постоянный протест, — таков исторический закон протестантизма, вырождающегося во множестве отдельных друг от друга сект и общин. Оба эти начала, взятые в своей отвлеченности, отрицают Церковь, не видят и не понимают ее, потому что пребывают вне ее благодатной жизни. Наоборот, объединенные в тайне Божественной любви, то есть в Церкви, они становятся элементами ее жизни: единством и соборностью.
Как же понимает Хомяков единство, как элемент жизни Церкви? Единство Церкви может быть понято двояко: как ее единственность в том смысле, что Церковь одна, а не много церквей, и как принцип ее внутренней жизни. Хомяков говорит в своих сочинениях о том и другом единстве и, вместе с тем, показывает неотделимость этих двух аспектов единства друг от друга. «Церковь одна», — так назвал сам Хомяков самое важное из своих сочинений о Церкви, свой «Опыт катехизического изложения учения о Церкви»». Этот трактат он начинает словами: «Единство Церкви следует необходимо из единства Божиего» (3). В этих немногих словах заключен весь многовековой опыт святоотеческого учения о Церкви, единство Церкви рассматривается здесь в обоих его моментах.
Церковь едина, как един Бог, и как нет и не может быть иного Бога («да не будет тебе бози инии разве Мене»), так нет и не может быть иной Церкви, многих церквей.
Но слова эти имеют еще и другой смысл, вытекающий из учения о единстве Церкви во образ Святой Троицы, о ее единосущии, которая есть любовь. Смысл этот заключен в словах первосвященнической молитвы Спасителя: «Отче Святый, соблюди их во имя Твое, их же дал еси Мне, да будут едино, якоже и Мы... Не о сих же молю токмо, но и о верующих словесе их ради в Мя, да вси едино будут, якоже Ты, Отче, во Мне, и Аз в Тебе, да и тии в нас едино будут» (Иоан. 17, 11 и 20—21).
Толкование этих слов, как раскрытие догмата единства Церкви, дает великий и ревностный борец за Православие св. Афанасий Александрийский, которого хорошо знал и глубоко чтил Хомяков. Единство в этом смысле есть единство в любви Божией, подлинное «едино-сущие». Хомяков подчеркивает, что единство это есть «не мнимое, не иносказательное, но истинное и существенное, как единство многочисленных членов в теле живом» (3).
Единство Церкви есть, по Хомякову, единство существенное, онтологическое, и оно не противоречит видимой ее множественности на земле в виде отдельных поместных церквей: русской, греческой, сирийской и других, которые есть части единого тела Церкви или, как говорит Хомяков, «собрание членов Церкви, живущих в такой-то стране» (6).
Относительный характер имеет и разделение Церкви на видимую и невидимую. «Церковь одна, несмотря на видимое ее деление для человека, еще живущего на земле. Только по отношению к человеку можно признавать раздел Церкви на видимую и невидимую; единство же ее есть истинное и безусловное. Живущий на земле, совершивший земной путь... все соединены в одной Церкви, в одной благодати Божией» (3).
С вопросом о единстве Церкви видимой и невидимой неразрывно связан также и вопрос о бытии Церкви во времени и, следовательно, о явлении Церкви в истории. Церковь, как «тело Христово, проявляется и исполняется во времени, не изменяя своего существенного единства и своей внутренней благодатной жизни» (3).
VII
Но единство Церкви, как таинственное единение всех со Христом и друг с другом, «тогда лишь получает свой венец, когда оно осуществляется в реальном мире, в принципе общежития, в проявлениях этого принципа, в учении, всею общиною исповедуемом, в общепризнанных и общепринятых таинствах, в обрядах, наконец... Церковь, в ее земном признании, в то же время видима и невидима. На деле она есть общество избранных Божиих, одно тело и одна душа, в этом смысле она Церковь невидимая. Но в то же время, безотносительно к внутренней индивидуальной жизни ее членов, она есть общество людей, признающих принцип христианской жизни и подчиняющихся ему, по крайней мере, с виду» (225).
Здесь чрезвычайно важно отметить, что Хомяков, начавший с отрицания определения Церкви, как общества, как организации, теперь приходит к утверждению этого начала, как «проявления» внутренней жизни Церкви. В Церкви, как обществе, живущем в истории, и получает свое осуществление второй элемент жизни Церкви — элемент свободы. «Вся история Церкви есть история просвещенной благодатию человеческой свободы, свидетельствующей о Божественной истине» (243). Эта свобода, свидетельствующая о божественной истине, и есть «соборность».
Поскольку соборность понимается Хомяковым, как «свобода, свидетельствующая о Божественной истине», вопрос о соборности теснейшим образом соприкасается для него с учением о Церкви, как хранительнице этой Божественной истины или, конкретнее, о Церкви, как хранительнице православного исповедания веры.
Кто именно из членов Церкви, или какой из ее органов является хранителем этой истины и этого исповедания? Хомяков разрешает этот вопрос, как и большую часть исследуемых им вопросов, полемизируя против заблуждений западных исповеданий.
Протестантство не знает такого органа, более того, оно отрицает и самую идею Церкви, как хранительницы истины, противопоставляя ей принцип свободного исследования или искания истины. Правда, представители всех протестантских сект сходятся в признании Священного Писания, как источника христианского учения, и в этом признании видят свое единство. Хомяков справедливо полагает, что такое единение является только кажущимся, во всяком случае оно не может быть истинной соборностью в том ее понимании, которое выдвигает сам Хомяков. «Разбитое на бесчисленное множество несогласных между собою обществ, — пишет он о протестантстве, — ...оно полагает свое единство только в одном факте признания Библии и в каком-то поклонении этой книге. Но это единство держится не на смысле Священного Писания (ибо толкования его противоречат одно другому), а на единстве вещи, то есть писаного слова, как книги, независимо от его значения и от мысли, в нем заключенной... (Это) кажущееся единство представляет все черты фетишизма» (107).
Библия для протестантства не живое слово Церкви, а нечто лежащее вне ее; самой Церкви, вернее отдельным ее членам, предоставлено право искания и исследования заключенной в Писании истины, и никто и ничто не дает гарантии правильности этих толкований, ни одно из них не содержит исповедания веры Церкви, не может претендовать на общецерковный смысл.
Совершенно противоположное положение мы наблюдаем в латинстве. Если протестантство предоставляет каждому верующему право свободного толкования Священного Писания, то латинство резко разграничивает две части Церкви: «Церковь учащую и Церковь учеников». Право хранения истины и ее проповеди предоставлено только Церкви учащей, состоящей только из клира и в первую очередь епископата. У второй части Церкви — мирян отнято право не только толковать, но даже читать Священное Писание.
Хомяков справедливо считает это деление «коренным принципом романизма, обусловленным самым складом Церкви-государства» (59). Свое логическое завершение этот принцип получил в учении о непогрешимости Римского епископа в делах веры.
В противовес этим двум противоположным заблуждениям Хомяков и развивает православное учение о соборности, как принципе вселенского единосущия в любви. «Вместо человека-машины, издающего невольные прорицания, поставьте целую Церковь; исповедание Божественной истины признайте плодом одушевляющего Церковь Божественного духа взаимной любви; вместо книги-кумира поставьте целую Церковь, для которой Библия есть слово начертанное, ее же собственное слово, по этому самому всегда для нее понятное, тогда вы получите жизнь вместо смерти, высший разум вместо очевиднейшего безумия. Вызовите сперва начало жизни — любовь, и вы опять узрите пред собою живой организм» (107).
Хомяков решительно отвергает деление Церкви на Церковь учащую и на Церковь учеников. «В истинной Церкви нет Церкви учащей» (60). Более того, он считает, что в истинной Церкви слово истины может быть сказано любым христианином, а не только епископом или вообще клириком; он утверждает даже, что не только слово, но и всякое дело, запечатленное Духом Божиим, и всякая христианская жизнь может быть поучением. «Мученик, умирающий за истину, судья, судящий в правду... пахарь в скромном труде, постоянно возносящийся к своему Создателю, живут и умирают для поучения братьев; а встретится в том нужда — Дух Божий вложит в их уста слова мудрости, каких не найдет ученый и богослов» (60).
Хомяков утверждает, что в истинной Церкви нет такого органа, который в силу своего юридического положения был бы хранителем и провозвестником истины. Таким органом не может считаться даже вселенский собор, потому что самое признание его «вселенским» определяется не внешними признаками, а признанием всей Церкви.
В своем понимании соборности Хомяков основывается на Окружном послании Восточных Патриархов от 6 мая 1848 года, в котором сказано: «У нас ни патриархи, ни соборы никогда не могли ввести что-нибудь новое, потому что хранитель благочестия у нас есть самое тело Церкви, то есть самый народ» (60). Сам Хомяков выражает эту мысль следующим образом: «Церковь кафолическая есть Церковь по всему или по единству всех... Церковь свободного единодушия, единодушия полного, Церковь, в которой исчезли народности, нет ни греков, ни варваров, нет различий по состоянию, нет ни рабовладельцев, ни рабов; та Церковь, о которой пророчествовал Ветхий Завет и которая осуществилась в Новом Завете, — словом Церковь, как определил ее святой Павел» (312—313).
VIII
Учением о сущности Церкви, как Богочеловеческого организма, о ее единстве и соборности не исчерпывается круг экклезиологических тем, затронутых в сочинениях Хомякова. Мы находим у него учение о значении иерархии, учение о таинствах и ряд других весьма важных для богословия тем. Однако изложение их не входит в задачу настоящей статьи.
В заключение уместно поставить вопрос о значении богословских воззрений Хомякова, ибо факт влияния его на современную богословскую мысль можно считать несомненным. Влияние это, по моему мнению, обусловлено тем, что Хомяков поставил в своих сочинениях важный для церковного сознания вопрос о самой Церкви и стремился разрешить его в духе и смысле учения самой Церкви. «Не новому догмату учим мы вас, — говорит об этом сам Хомяков, обращаясь к христианам Запада, — нет, это — догмат первоначального христианства. Не новое предание налагаем на вас: это то самое предание, которое соблюдали и ваши отцы» (161).
Таким образом, А. С. Хомяков возвращает христианскую мысль к истокам живого святоотеческого предания. Раскрывая догмат о Церкви, он указывает, что это не «туманное учение о чем-то мечтательном и призрачном», а та самая Церковь, которая и по сие время неизменно и нерушимо хранит догматы, предания, установления и церковные обычаи в том самом виде, в каком они существовали в Церкви в первые восемь веков христианства.
А. Ведерников
[1] Кондак Недели Святых Отцов Никейского Собора.
[2] Цифры в скобках после цитат Хомякова означают страницы его «Сочинений», т. II, 5-е изд., М. 1907.