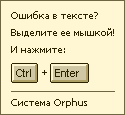СТРОИТЕЛЬ БОГОВДОХНОВЕННЫЙ
С древнего пергамента, с длинных вощеных свитков, с пожухших старинных рукописей, со страниц учено-исторических исследований и весьма плодотворных изысканий последнего времени встает перед нами во всем своем величии образ государственного и церковного деятеля широчайших размахов — характер сложный, многообразный и многообъемлющий, в котором, однако же, нет ни одной черты, находящейся хотя бы в малом противоречии со всем строем этой мощной, цельной, кипучей и вместе с тем сдержанно волевой, исключительной натуры, — образ святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского.
Богатство и многогранность натуры этой — подлинно изумляющие. Сын властолюбивого «буйного» Юрия Долгорукого, всю жизнь проведшего в бранных сечах, пирах и утехах с соратниками и лишь для смертного одра оставившего боевое седло, князь Андрей не унаследовал основных черт отцовского характера. В детстве был до застенчивости кроток, тих, ласков, мечтателен, любил уединение, отличался набожностью: знал наизусть все церковные службы и участвовал в них, мог назвать имена святых каждого дня в году, впоследствии, в походах и путешествиях, всегда возил с собою книги Священного Писания и никогда не расставался с Псалтирью. Что-то женственное излучает его облик времен детства и отрочества, и эту мягкость женственности сохранил он и тогда, когда вошел в мужество и силу. По летописи «не величав был на ратный чин», то есть не только в завоевательных и карательных походах видел осуществление задач, лежащих перед властителем, и в этом смысле стоял значительно выше, был государственнее своих венчанных предшественников и сородичей. Вместе с тем полностью получил необходимое и неизбежное в те времена военное воспитание, превосходно владел мечом, копьем, луком, искусством вождения войск. Резко отличаясь от отца всем строем натуры, был ему любящим, верным и покорным сыном, участвовал по его повелению во многих боевых делах и на бранном поле изумлял и восхищал соратников отвагой, находчивостью и совершенным бесстрашием. Но, заняв великокняжеский престол, ушел от непосредственного участия в военных операциях, за исключением двух походов на камских болгар-мусульман, невидимому, весьма важных и слишком рискованных без личного руководства.
Родился в Суздале, в крае глухом, лесном, тихом и, конечно, с первых же сознательных дней не мог не быть очарован благородно-скромной красотой его, мягкими холмами, васильковым ласковым небом, светлыми озерами, журчанием ручьев в тенистых дубравах, птичьим пением, ясными зорями, долгими веснами, крепкими зимами; не мог не полюбить и насельников края, трудолюбивых хлебопашцев, лесорубов, смолокуров, охотников, рыбаков. И оказавшись по воле отца на юге, в центре государства времен упадка, в шумной столице с ее внешней пышностью и внутренней опустошенностью, с резкими контрастами богатства и нищеты, с засильем высокомерных и хищных иностранцев, торговой суетой, соперничеством, спесью, лицемерием и разгульным весельем знати, плененной византийским блеском, с общей развращенностью нравов, он, сам целомудренно чистый и воспитанный в условиях здоровой простоты, не только отвратился от этого торжища, не только почувствовал тоску по родным местам, но и внутренним прозрением исключительно одаренной натуры понял, что здесь — увядание, развал и пагуба и что только там, на севере, в крае целинном, среди сильных и простых людей с их душевной чистотой, непосредственностью, доверчивостью, честностью и неутомимым трудолюбием может обрести государство новые силы, получить в застывающие жилы свежую кровь... Всесторонне развитый, неутомимо любознательный, упорный в поисках причины и сути вещей и явлений, всемерно обогащающий себя опытом, еще в молодых годах пришел к заключению, что власть, опирающаяся только на высшие классы и армию, есть власть непрочная. Позже, у преддверия решающих событий его жизни, христианским сердцем своим уразумел он, что власть над народом, идущая от Бога, не может быть жестокой для народа, что она должна быть угодна народу, что власть есть бремя и великий ответ, а не предмет личных успехов, благополучия и славы. Знаменательно, что Андрей Боголюбский, законный наследник и преемник носителя высшей власти, принимавший эту власть по никем не оспоримому праву, был народным избранником. «Ростовци и Суздальци, сдумавше вей, пояша Андрея, сына Юрия старейшего, и поса'диша и в Ростове на отче столе, и Суждали, занеже бе любим всеми за премногую его добродетель, юже имяше прежде к Богу и ко всем сущим под ним» [1].
«От святаго корене святопомазанная отрасль», «шестый степень от самодержавнаго и равноапостольнаго царя и великого князя Владимира Святославича» в личной жизни был почти подвижнически скромен. «Многой же пищи и сладких аромат и любоплотия до конца отвратися, сим всему телу своему немилостив враг бысть». Борясь с соблазнами своей кипучей, страстной, пламенной натуры, он был исключительно милостив к людям, зная по себе, сколь силен грех, как много сил требует преодоление его. Двери княжеского дворца были широко отворены для всех. Андрей сам принимал и внимательно выслушивал жалобщиков и просителей, посещал заключенных и отменял неправедные судебные приговоры, ухаживал за больными, был «отец сирым, вдовам питатель, обидимым помощник, в скорбех сущих пресветлый утешитель». О просящем у него (подаяния говорил: «Вот Христос пришел искусить меня». Всем беднякам края хорошо известен был стоявший против дворца (и в значительной степени сохранившийся до наших дней) «киворий» — резной каменный шатер с большой глубокой каменной чашей в центре. По праздникам чаша доверху насыпалась деньгами и князь сам оделял неимущих, щедро черпая горстью и пригоршней...
Но эта «женственная» мягкость сочеталась в Боголюбском с качествами крупнейшего государственного мужа и крепкого властодержца — проницательным умом, стальной волей, настойчивостью, выдержкой и хладнокровием, вместе с энергией неистощимой, кипучей, ключевой. И все эти драгоценные качества цементировались и многократно умножались исключительным организаторским даром князя.
После отъезда Андрея из киевского Вышгорода в обширный и сравнительно мало заселенный Суздальский край, потянулись за ним с юга люди, искавшие укрытия от раздоров, поборов, произвола, разорения и всяческого беспокойства, связанного с византийским бременем. Вслед за утверждением великокняжеского престола во Владимире число переселенцев стало стремительно увеличиваться. Это был живительный поток. С распадающейся Киевщины уходило то недовольное, что жаждало мира, справедливости и более верного поля для приложения своих сил и знаний, — наиболее жизнеспособное, жизнестойкое, энергичное, предприимчивое, передовое. Эти люди стояли на более высокой ступени культуры, чем население края, и ему несли они грамоту, ремесла, более совершенные способы производства и более удобную систему торговли. Андрей ясно понимал всю благотворность этого процесса. Трудом переселенцев и в большой мере для них cамих он строил села, посады и целые города, как Кснятин, Юрьев-Польской, Дмитров. От тех далеких времен до наших дней дошли на Владимирщине южные названия рек, городов, селений: Рпень, Лыбедь, Почайпа, Липня, Подолец, Трубеж и другие. И с совершенным правом впоследствии сказал о себе князь Андрей: «Я Белую Русь [2] городами и селами застроил и многолюдною учинил».
Прозорливый политик, твердый властитель, мудрый правитель-практик, неутомимый собиратель и усердный устроитель государства был не только образованнейшим человеком своего времени. Он обладал художественным вкусом и какой-то огненно-вдохновенной, императивной потребностью созидания, творчества в самом высоком смысле этого слова. Оставленные им бессмертные памятники церковного зодчества на протяжении многих веков вызывали и вызывают сейчас восхищение всех, кому выпадала и выпадает высокая отрада лицезреть их воочию. Владимиро-Суздальская школа живописи и зодчества сыграла громадную роль в сложении московской архитектуры. Ее памятники — одни из самых выдающихся сооружений Европы XII — начала XIII вв. Владимиро-Суздальских зодчих современный ученый историк так и именует «Андреевскими» [3]. Великий князь Андрей со всех концов страны и из других земель выписывает лучших каменщиков, белокаменщиков, резчиков, лепщиков, кровелыциков-верхолазов, иконописцев, мастеров по финифти, эмали, скани, специалистов по золоту и серебру, вышивальщиков парчей и жемчугом. Он строит белокаменные храмы во Владимире и Суздале, в Боголюбове и Ростове и с поразительной неутомимостью руководит всеми работами лично, возглавляет их.
В строительстве этом, как всегда у Боголюбокого, забота о церковном процветании соседствует с заботой о пользе общегосударственной. Храм — это не только дом молитвы, это и очаг новой, более совершенной, культуры, и центр братского единения и сплочения. И просвещать светом христианства глухой, в значительной мере, языческий край и вместе с тем, укреплять его государственно гораздо плодотворнее не принуждением, а примером. А перед приходом Андрея над лесами суздальскими еще только занималась заря христианства, еще сильна была в народе власть волхвов, ведунов, колдунов, ворожей. И не только по селам и лесным полянам, а и в самом Владимире горожане и окрестные землепашцы собирались в Яриловой долине и поклонялись и приносили жертвы языческим богам, жгли костры, водили хороводы, пели обрядовые песни, устраивали ритуальные пиршества. Лучший и богатейший из всех храмов, возведенных Андреем, — Успенский собор — и имел своим назначением поразить, потрясти, ослепить язычников, чтобы они, по словам летописца, «смирились перед величием сей славы и крестились» [4].
Уходя из Вышгорода на Суздалыцину, Андрей взял с собою чудотворную икону Божией Матери, написанную, по преданию, евангелистом Лукой и впоследствии проставленную по всей Руси под именем Владимирской. В житии Андрея Боголюбского повествуется, что когда князь со свитой и обозом поднимался на возвышенное место близ Владимира, лошади, везшие икону, остановились как бы под грузом неодолимой тяжести. Тщетны были все попытки сдвинуть повозку с места. Запрягли свежих лошадей — колеса попрежнему оставались прикованными к дороге. Князь Андрей принял это как небесное знамение. Икону подняли, отслужили молебен, оcвятили место, и князь дал обет построить здесь храм. Когда после этого икона была вновь водружена на повозку, лошади легко тронулись вперед.
Через год вступления на великокняжеский престол Андрей, одновременно с возведением Успенского собора во Владимире, приступил к постройке храма на холме, где совершилось знамение. Работа до такой степени увлекла князя, а исключительные природные данные места, его возвышенное положение, извив широкой Клязьмы, образующей естественную гавань у самого подножия возвышенности, и впадающая в Клязьму неподалеку Нерль — основной водный путь к Суздалю, близость к столице, наконец высокие стратегические достоинства в сочетании с необыкновенной живописностью так пришлись ему по душе, что он не удовлетворяется исполнением обета. Закончив постройкой величественный белокаменный собор, возводит он вторую церковь — в честь св. Леонтия, а рядом с нею княжеские хоромы, помещения для стражи, службы, хозяйственные склады, обносит их валами и крепкими стенами. Новому своему детищу князь дает наименование Боголюбова. По свидетельству современников замковый анcамбль этот поражал и восхищал иностранцев столь же своим своеобразием, сколь и великолепием. Замок становится великокняжеской резиденцией. Здесь властитель Руси принимает представителей других княжеств и послов из стран Западной Европы, здесь создаются его планы дальнейшего объединения и укрепления государства, отсюда мчатся во все края Русской земли великокняжеские гонцы, здесь, завершив державный день, удаляется он по внутренним переходам в храм для молитвенного уединения, и здесь же обретает мученическую кончину...
Последний аккорд величественной симфонии, созданной гениальным церковным зодчим, князем Андреем Боголюбским, — храм Покрова на Нерли. Белый камень для постройки Успенского собора привозился, по легендарным данным, от Волжских болгар по Нерли, а затем перегружался на суда большей вместимости и по Клязьме доставлялся во Владимир. Перегрузка шла на месте впадения Нерли в Клязьму, на расстоянии «одного поприща» от Боголюбова. На протяжении двух лет здесь по повелению великого князя оставляли каждый десятый камень: Андрей предполагал построить на этом месте еще один храм — о благодарность Богу за возведение основной овятыни, Успенского собора.
На что-то помешало ему приступить к осуществлению замысла непосредственно по завершении собора — в 1161 году. Через четыре года великого князя постигло семейное горе — внезапно умер его сын Изяслав. И эту тяжкую утрату принял Андрей как указание Небесных Сил, и в том же году на месте слияния Нерли и Клязьмы возвел белокаменный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
Боголюбово было в значительной степени уничтожено нашествием монголов. В дальнейшем по небрежению властей на протяжении веков многое из оставшегося подверглось естественному разрушению, и до наших дней дошла лишь незначительная часть этой дивной композиции. Церковь же Покрова на Нерли, за исключением находившейся в ней драгоценной фресковой росписи XII века, которая существовала еще в шестидесятых годах прошлого века, осталась почти нетронутой и, по справедливости, «входит в первый ряд шедевров русского и мирового. зодчества» [5].
Мужем зрелым, опытным принял бремя власти и семнадцать лет нес это бремя в сознании великой ответственности за драгоценную ношу, в непрестанном служении государству и Церкви всеми силами и способностями, всем разумом, честью, пламенной своей душою, в безраздельной отдаче служению этому всего себя. Семнадцать лет собирал, строил, украшал и оберегал государство, семнадцать лет рукою мужественной и твердой вел страну по новому пути, пути национальной независимости, из византийствующей Киевщины на свой Владимирский перевал, откуда через полтора столетия преемники его привели Русь в Москву, к началу нового расцвета и немеркнущей славы, к истокам величественного времени нашего. Семнадцать лет боролся со всем, что тормозило это движение, пыталось остановить и повернуть его вспять, и, главным образом, с «западниками», с косным, спесивым и алчным боярством, тяготевшим к Византии, внешний блеск которой ослеплял его, а разнузданные нравы знати прельщали вседозволенностью. И терпеливой, долгой, мудрой и плодотворной деятельностью своей стяжав любовь крестьян, «мизинных людей», и низшего посадского сословия, «сходцев», то-есть, народа, вызвал к себе ненависть боярства.
И вот, «Не постави бо Бог прекрасного солнца на едином месте, а доволеюща и оттуду всю вселенную освещати, но створи ему усток и полъдне и запад: и тако угодника своего Андрея князя не приведе его к соби туне, а могущего таковым жьтием и тако душу спасти, но кровью мученичьскою умывея» [6].
...28-е июня 1174 года. Вечер. В Боголюбове, в доме свойственника великого князя, боярина Петра, собрались придворные и бояре, числом двадцать. Во главе их — брат жены великого князя боярин Яким Степанович Кучка, сам хозяин, ключник и казначей князя Анбал Усин, и некий Ефрем Моизич, служебное или общественное положение которого летописи не сообщают. Только что предусмотрительно выехала из замка жена великого князя Улита Степановна Кучка, также участница заговора. Возможно, что заговор в числе иных имел и родовые корни: когда-то отец Улиты и Якима, боярин Степан Иванович Кучка, отказался исполнить боевой приказ великого князя Юрия Долгорукого, и горячий князь в порыве гнева убил ослушника, земли его отнял и сделал государственными, а на месте вотчинного поселка при реке заложил «малый город» — Москву.
Ночь. Великий князь, помолившись, уходит на покой. Ключник Анбал оставляет злодейское сборище и, пользуясь своим положением, проникает в княжеские покои и похищает из опочивальни меч князя, который для Андрея не только оружие, но и великая родовая святыня — это меч св. Бориса. Князь Андрей засыпает. Во тьме, в тишине заговорщики поднимаются на второй этаж дворца и входят в сени перед великокняжеской опочивальней, «ложницей». Но страх и смятение охватывают черные души преступников и столь же неслышно спускаются они по лестнице и забираются в погреб, «княжую медушю». Упившись вином, они вновь поднимаются в сени. Раздается стук в дверь. Пробудившийся князь спрашивает, кто стучит и зачем. Один из злодеев, ломая голос, называет имя любимого постельничего князя, отрока Прокопия. Но Прокопий тут же, в опочивальне. Князь тщетно ищет в темноте свой меч. Стук повторяется, сменяется глухими тяжелыми ударами. Дверь падает. Устремившийся вперед на защиту князя, отрок Прокопий падает бездыханным. Злодеи бросаются на князя, но он и на седьмом десятке лет так силен, что первый напавший под его ударом рушится на пол. Думая, что это повержен сам князь, преступники добивают упавшего и только предсмертные его вопли указывают им на их ошибку. С новой яростью бросаются они на безоружного князя, рубят его мечами, бьют ножами, колют копьями. Князь падает. Уверенные, что их жертва мертва, злодеи удаляются, захватив с собою тело убитого соучастника. Идет время. Тяжко раненый князь приходит в сознание и, истекая кровью, медленно сползает с лестницы, — чтобы вызвать стражу. Но силы оставляют его, он не успевает добраться до дверей и, чтобы передохнуть, опускается в малой нише под лестницей. Медленные стоны раздирают тишину этой жестокой ночи. Стоны доносятся до слуха злодеев. С зажженными свечами они кидаются в опочивальню, видят кровавые следы, спешат вниз, в укрытие, и довершают свое страшное дело... Оголенное, окровавленное тело князя они бросают на огород и запрещают людям даже приближаться к нему, сами же приступают к грабежу великокняжеского дворца. В посаде за степами дворца вспыхивает волнение. Утром один из верных слуг князя бесстрашно кричит Анбалу Ясину: «Ты пришел сюда голодный и оборванный, князь дал тебе все, обласкал и возвеличил тебя, а ты сейчас наслаждаешься наготою мертвого своего господина!» Но убийцы уже смятены — в посаде требуют их выдачи. Анбал молча бросает из окна дворца ковер и епанчу князя. В них заворачивают тело убитого и переносят его в притвор дворцового храма, но только на третий день космодемьянский игумен Арсений опускает тело князя в каменный гроб и совершает отпевание. Еще через три дня из Владимира в Боголюбов прибывает многочисленное духовенство во главе с игуменом Феодулом и в сопровождении несметных толп, оплакивающих того, кто был «отец сирым, вдовам питатель, обидимым помощник», с великими почестями, под великокняжеским стягом перекосят тело злодейски убиенного великого князя Андрея Юрьевича Боголюбокого в столицу Руси...
Если от дальнего края необъятной клязьминской поймы, от сине-голубой дымчатой каемки лесов повернуться лицом к Владимиру, закрыть глаза и потом сразу открыть их, то первое, что властно привлечет
взор, что окажется в центре незабываемой картины, — это вознесшимся над высокой зеленой грядой златоглавый Успенский собор. Алый в свете утренней зари, пурпурный в лучах зари вечерней, ослепительно сверкающий белизною стен в полдень, он поднимается над городом, над его садами, над полями, лугами, лесами, над всем этим древним русским краем как драгоценная спасительная Дарохранительница.
Дорога из Москвы на Горький рассекает город в нагорной части и образует главную его магистраль. Непрерывно по ней движение новеньких троллейбусов, нарядных комфортабельных автобусов, легковых автомобилей, грузовиков, мотоциклов, велосипедов, а из Горького в Москву регулярно проходят целые караваны только что сошедших с конвейера «Побед» и, почти не покачивая сверкающим корпусом, вбирая рессорами самые малые неровности дороги, мчатся мощные красавцы «ЗИМы».
Границу восточной окраины города не определить — на несколько километров, до самого села Доброго и дальше, почти без прорывов раскинулись сады с прославленной владимирской вишней и утопают в их зелени деревянные дачи с верандами, балконами, фонариками, башенкам», цветными витражами, под огромными белостволыми березами тянутся нарядные новые, но в старорусском стиле построенные, дома с мезонинами, скворешниками, палисадниками в цветах, с такой причудливой, филигранно-тонкой резьбой оконных наличников, коньков, крылец, что как бы ты ни спешил, куда бы ни торопился, а невольно задержишь шаг, чтобы полюбоваться этими пышнохвостыми сказочными птицами, потомками Сирина и Алконоста, диковинными зверями и невиданными цветами, стилизованными с изумительным вкусом, в богатом орнаменте из пятиконечных звезд, веиков и пшеничных колосьев.
Но вот уже и Доброе, а вскоре после него и Боголюбово.
За стенами замка, несколько раз на протяжении веков перекладывавшимися, сохранилось немногое. Но и это немногое сильно всколыхнет сердце русского человека, пронзит его скорбной печалью, заставит склонить голову под властью оживших видений бурного, славного и трагического прошлого.
...С лязгом войдет в широкую скважину и повернется огромный тяжелый ключ, подадутся и отойдут кованые двери, перед глазами предстанет часть придворного храма, рухнувшего еще в начале XVIII века, — обломки колонн, древний крест на полу, забранная решеткой дверь на хоры вверху, остатки стенной росписи: ангелы, апостолы, «Земля и море, отдающие мертвых». От второго входа в здание поднимается крутая каменная винтовая лестница. Тридцать две высоких треугольных ее ступени выщерблены, истерты. Скуден свет четырех бойничных узких окон по подъему лестницы. Сени наверху. Оки так малы, что вряд ли могли вместиться здесь двадцать человек, — последним пришлось стоять на лестнице. Вот и опочивальня, и дверь из нее на хоры, в церковь, где князь молился в уединении. Эти стены, свидетели кровавой исторической трагедии, полностью дошли до нас. Сколько здесь за восемьсот лет произнесено тихих молитв, передумано дум, пролито слез!... Стены покрыты цветной потускневшей росписью. Она не имеет художественной ценности, эта наивная стенопись, но невыразимо волнует своей непосредственностью и сочувствием к мученику. Фигуры нанесены в человеческий рост. Вот злобный Петр, вот коварный Анбал, пот мстительный Яким Кучка, вот сам, пронзаемый мечами, великий князь. Славянские литеры повествуют:
«И пришедъши нощи, они же устремившеся поимавши оружья, поидоша на нь яко зверье сверьпии, и идущим им к ложнице его, и прия е отрах и трепет и бежаше с сений, шедше в медушю и пиша вино; сотона же веселяшеть е в медуши и служа им невидимо, поспевая и крепя е...»
«...боряхуся с ним велми, бяшеть бо силен, и секоша й мецн и саблями и копийные язвы даша ему...»
«...и седящю ему за столпом въсходным, и надолзе ищущим его; и узреша и седяща яко агня непорочно, и ту окаяньни ириокочиша, и Петр же отьтя ему руку десную. Князь же възрев на небо и рече: «Господи! в руце твои предаю тобе дух мой; и тако успе...» [7].
Вот и ниша, глухая пасть под лестницей, где завершено было преступление, где раздался последний вскрик, пронесся последний вздох мученика за Правду, Веру, Отчизну... В этой темной норе не встать в рост, голова упрется в камень, — как здесь и по сей день тяжко и страшно! Глубже вдохнешь воздух, выйдя из мрака и холода, ярче покажется солнце, радостнее синее небо, милее голубые родные дали.
С южной стороны замка, куда под самый срез холма подходила многоводная Клязьма, осталась лишь ее «старица» — длинное тихое озеро, заросшее ряской и водяными лилиями, а сама река ушла далеко в сторону: надо опуститься к железной дороге, пересечь насыпь и довольно долго идти к месту, чтобы увидеть живые, быстро плещущие ее воды. Церковь Покрова на Нерли была выстроена «в лугах». Если, не переходя моста, свернуть вправо, вдоль берега, то вы и сейчас окажетесь на бескрайнем лугу, пойдете по высокой, местами до пояса, чистой, сочной траве с множеством полевых цветов, в их жарком медвяном аромате, в жужжании пчел. До церкви «одно поприще» — немногим больше километра. А вот и она — небольшая, легкая, радостно белеет под купами вековых вязов и лип.
Современный историк искусства говорит, что храм Покрова «завершает творчество андреевских зодчих» [8].
Этот храм, как бы высеченный из одного куска, невелик по сравнению с придворным храмом Боголюбова, каким мы видим его в реконструкциях. Он просто мал рядом с Успенским собором Владимира. Но чем внимательнее и дольше рассматриваешь его вблизи, тем скорее теряешь представление о его подлинных размерах, так захватывает зрителя гениальное выполнение той задачи архитектурного пространства, которую ставил перед собою строитель, — передать порыв камня к небу. Командное господство вертикальной линии во всех деталях — пилястры, колонки аркатурного пояса, каннелюры, высокие щелевидные окна — все это властно влечет глаз кверху, а соотношение всех частей здания дано в таких совершенных пропорциях, в столь покоряющей гармонии, что само здание кажется бесплотным. Впечатление это усиливают тени барельефов, ложащиеся на белое поле стены как на легчайшее полотно. «Архитектурным песнопением» называют церковь Покрова наши искусствоведы. Да, все воздушно-невесомо в этом вдохновенном творении, все стремится ввысь, все звучит как ликующий гимн небу.
Нерль, когда-то отдававшая здесь свои воды Клязьме, тоже оставила по себе «старицу» — прозрачное глубокое овальное озеро с холодной ключевой водой, и с противоположной стороны озера в изумительной красоте предстает безупречно отраженное в зеркале вод это сокровище русского национального гения — дивная панорама, столь знакомая любителю родного искусства по многим русским и иностранным монографиям...
* *
Все здесь несет в себе память о Боголюбивом князе, все дышит именем того, о ком сказано: «Мужество и ум в нем жили, правда и истина в нем ходили; вторым мудрым Соломоном он был» [9]. Оживленным, волнующим встает здесь, на этих просторах, в местах, где протекала его основная деятельность, образ его — такой, каким рисуют нам его современники: широкий в плечах, красивый лицом, с волосами густыми, черными, вьющимися, с высоким челом, с очами светлыми, большими, неутомимый, всегда в стремлении, в порыве, в действии, в работе непрерывной, напряженной и многообразной, которому тесно в любых стенах; устроитель, собиратель, созидатель, и вместе с тем скорбный молитвенник, заступник за обиженных, сострадалец несчастных — крупнейший властитель Европы, смиренно подписывавшийся: «Худой и грешный раб Божий Андрей князь...»
Как условно понятие времени! Вон, впереди, над крутым обрывом поднимаются полуразвалившиеся крепостные стены и башня Боголюбского замка, где час назад, с душою, потрясенной до самих глубин, оставил я страшную нишу. Вон, к ажурному плетению моста через Клязьму приближается под летящей назад, клубящейся пеной белого дыма длинный поезд. Через четверть часа он будет в древней русской столице, остановится под златоглавым собором, венцом боговдохновенных трудов великого князя Андрея. Передо мною играют, плещут, ломко сверкают серебром быстрые волны Клязьмы. Вон там, в густом ивняке, с ее водами сливаются воды Нерли, прошедшей под Суздалем, где раздался первый крик создателя и просветителя края. А сами воды эти, пройдя через построенный в наши удивительные дни канал, сомкнутые с водами Москвы-реки, пройдут под стенами Кремля, заложенного руками Юрия Долгорукого, и обогнут великодержавную нашу столицу, с которой неразрывно связана светлая память того, кто началу и укреплению предмосковмой Руси отдал все свои огромные силы и самую жизнь... И вот касается трепетная рука моя белого камня, который быть может положили на это место сильные руки князя, — а он не только руководил работами, участвовал в составлении планов, в отборе и распределении материалов, во всех хозяйственных расчетах, не только давал указания зодчим и входил во все подробности работы, но и показывал личный пример строителям, — и восторженно любуется взор мой нанесенными над главным порталом храма барельефными изображениями псалмопевца Давида, играющего на гуслях и пророчествующего о Деве Марии, львов, грифона и голубя, символа Духа и мира...
Еще в прошлом веке здесь совершались церковные службы — трижды в годичный обиход: накануне первого октября, в самый праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в день священномученика Леонтия. Но свято соблюдался обычай, по которому и еще раз в году оглашались человеческими голосами древние церковные своды. По весне, когда широко разливались воды Клязьмы и Нерли и заливали луга, в Пасхальную ночь после Светлой Заутрени иноки Боголюбовского монастыря отправлялись в храм Покрова на Нерли «христосоваться».
...Залитый предзакатным солнцем, расцветившийся белым и розовым клевером, ромашками и лиловыми колокольчиками, необъятно раскинулся передо мною сочный зеленый луг, а мне легко воображением, почти памятью, перенестись к иному видению. Близится полночь. Этот луг, скрытый водами поднявшихся Клязьмы и Нерли, стал таким же необъятным, раскинувшимся до горизонта, морем, и лишь вдали поднимается над ним Боголюбовский холм, превратившийся в остров. Тиха, прохладна весенняя ночь, и в черном недвижном лоне вод отражаются звезды, и высокая колокольня и тяжелый корпус монастырского собора на холме, таинственно, призрачно озаренные колеблющимся светом плошек по карнизам и пролетам окон. И вдруг многоголосый далекий хрустальный трезвон падает с неба и множится, множится, рассыпается, словно разбиваясь о черное зеркало, и вот в ликующую серебряную дробь вступают еще еле слышно стройные человеческие голоса. Они крепнут, ширятся, и глаза мои во тьме различают, как от острова одна за другой отваливают большие ладьи, освещаемые смоляными факелами. Все ближе хор, все слышнее торжественные мелодии пасхальных песнопений, огни факелов дробятся в оживающей под веслами воде, флотилия приближается, и я уже могу рассмотреть сидящего на корме и сжимающего в сильных руках правило брата-кормчего, мерно раскачивающиеся фигуры гребцов и вдохновенные лица стоящих иноков в мерцающем свете вооковых свечей. Ладьи направляются к церкви Покрова, поднимающейся прямо из воды, — крепкий фундамент ее возведен с расчетом на частые наводнения. Ноги монахов ступают непосредственно на пол притвора, в храме разливается тихий трепетный свет, священноинок в сверкающем облачении отверзает Царские Врата, троекратному «Христос Воскресе!» отвечает с новой радостной силой, хор, сладчайшие слова песни Праздников Праздника отдаются под высокими сводами, вырываются на волю, широко расходятся по необъятной водной глади и поет, ликует вся эта древняя русская земля...
...Солнце наливается вечерними соками, подходит к длинному расщепленному розовому облаку, одиноко повисшему над горизонтом. Старенький седобородый, светлоглазый сторож в валенках, подшитых кожей, сидит на скамеечке, плетет леску — привычно работают согнутые подагрой пальцы. Он родился здесь, на этих вольных просторах, и хорошо зна'^т и любит свой край с его легендами, сказаниями и поверьями.
— Эва, Нерль-то куда ушла, — широко взмахивает он рукой в сторону леса. — Раэгневалась... Когда я еще совсем малым был, рассказывали старики, что сами когда-то в детстве от стариков же слышали, — в ту ночь, как убили злодеи князь-Андрея, стала вода в Нерли розовой, словно бо оросилась человеческой кровью, и от того дня тронулась река со своего места. И ушла она с тех пор больше чем на три версты отсюда. Только озерко вот это ключевое по себе оставила в память тех великих дней, когда главная святыня всей земли Российской строилась — наш собор Успенский...
— А рыба, дедушка, в озере водится?
— Водится, мил человек, водится. Только мы ее не трогаем, потому что озеро-то это у нас, у старых людей, святым почитается. Нет, мы рыбу в простой воде берем, в Клязьме.
От реки, с двумя полными ведрами в руках, поднимается молодая загорелая женщина с теми же серыми приветливыми глазами, что и у старика, — внучка сторожа, приехавшая из города погостить в родных местах. Сухо, дробно бьет по огородной листве вода из лейки, мелким дождем сыплется на пышную клумбу перед сторожкой и вспыхивает в серой струящейся сетке яркая дуговая лента радуги. Пахнет свежей землей, укропом, резедою.
Смеркается. Под высокой крышей храма воркуют голуби, устраиваясь на ночь. У сторожки, на вкопанном в землю самодельном столе, кипит самовар, тихий мальчик, сирота войны, принес из лесу целое блюдце ранней земляники, стоит кувшин с молоком, глиняный горшок с первым медом, прикрыта расшитым полотенцем стопка свежих ржаных лепешек. Уже второй раз зовут гостя к столу радушные хозяева, но я все не могу тронуться с места, оторвать очарованных глаз от раскинувшихся передо мною просторов, расстаться со светлым волнением, рожденным встречей с этими, дорогими для каждого русского человека, местами, осененными именем Боговдохновенного строителя.
Страна моя!...
Да, мы любим всех людей на земле, независимо от их происхождения, принадлежности к той или иной нации, народности, государству, — любим нелицемерно, просто, естественно. Эта любовь к людям и то, что мы считаем их своими братьями, не стоит нам ни малейшего усилия, ибо таковы свойства нашей живой бесхитростной русской души, ибо к тому призывает нас наша Церковь и так гласят наши гражданские законы. Мы уважаем обычаи, нравы, традиции каждого народа, мы полностью отдаем должное его истории, мы ценим его культуру и искусства, мы желаем мира, благоденствия и счастья всем людям на земле.
Но когда вот так, с высокого берега древней реки посмотришь на эти, раскинувшиеся под голубым небом необъятные синие дали с их поймами, лесами, полями, холмами, серебряным звоном речек под старыми ракитами, тихой озерной гладью, на все это приволье, за которым во все концы света протянулись неисчислимые родные дороги, — от тундры к пальмовым рощам, от Курильских островов и снежных вершин Памира к шахматным полям европейского Запада, — захватит твое дыхание, затуманится взор, почувствуешь, как обольется светлыми слезами умиления, запоет твоя душа... Гордость? Нет, гордыня всегда была чужда нам, она нас отталкивала в других. Нет, это счастье от полного, совершенного соответствия между твоей натурой и вот этой целомудренно скромной природой и ее величавой историей, благодарность Творцу за то, что ты родился на русской земле. Это чувство свойственно человеку любой нации? Что же, оттого не меньше наша радость.
Да будет благословенно имя твое, прекрасная моя Родина!
Р. ДНЕПРОВ
[1] Полное собрание летописей, том I, стр. 149.
[2] т. е. Северную.
[3] Н. Воронин. Сокровища русского зодчества, Владимир, Издательство Академии архитектуры СССР, Москва, 1945.
[4] Ипатьевская летопись под 1175 г.
[5] История культуры древней Руси, том II, Издательство Академии Наук СССР, М. — Лгр., 1951, стр. 312.
[6] Ипатьевская летопись.
[7] Киевская летопись.
[8] Н. Воронин. Владимир, Издательство Академии архитектуры СССР, М., 1945.
[9] Полное собрание летописей, том I, стр. 156 — 157.