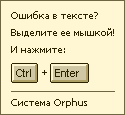У СВЯТЫХ ПЕЩЕР
По крутому дуговому склону глубокой котловины от подножия до гребня поднимается вековой могучий лес, и наверху, над котловиной, даже и в спокойную погоду несмолкаемо стоит многоголосый мерный густой шум. Когда же налетит с полей ветер,—не оторвать взора от Изумительной картины. По громадному зеленому полотнищу плакучих берез непрерывно, все в одну сторону, бегут волны, и сами березы, как бы в поясном поклоне, горестно и жалостно склоняются перед теми, на кого идет воздушная сила. Трехобхватные липы волнуются всей своей мощной упругой массой, принимая грудью напор. Дубы лишь величаво покачивают вершинами, обступив шестисотлетнего гиганта—старейшину. И лишь купа дремучих сказочных елей, поднимающихся со дна котловины, защищенных зелеными собратьями, недвижна. Но и когда крепнет ветер и нарастает шум, нет в нем резкости, тревоги, угрозы,—зачарованный, внимаешь его мощным органным аккордам.
Святою горой называется этот склон котловины. На зеленом его фоне в дивной, несказанной красоте рисуются золотые главки и кресты Успенского собора, главного храма Псково-Печерского монастыря.
«Домом Пресвятой Богородицы» именовали предки наши православную Русь. Имя это донесла обитель до наших дней. Прославленная по всему краю икона Успения Божией Матери — основная святыня Лавры, именовавшейся некогда «пустынькой». Успенский же храм хранит и другую чтимую икону Богоматери — «Живоносный Источник». Изображение иконы Успения украшает Святые ворота со стороны входа, список с иконы Умиления —с внутренней стороны. Над Никольскими воротами, ведущими вниз, в глубь обители, укреплен список с иконы Божией Матери «Одигитрия». Все здесь напоено сладчайшим именем Пречистой. Ha одном из витражей монастырского колодца нанесено изображение иконы «Живоносный Источник». Благословляя мир, встает благодатная Дева над золотой чашей. Осенью сама котловина, по дну которой расположены основные храмы и корпуса обители, напоминает золотую чашу, и подобно омофору Пречистой струится над чашей этой золотой солнечный воздух.
Пятисотлетняя история обители, зародившейся на крайнем западе русской земли, у самых ее рубежей, уже в наше время на четверть века оторванной от родных корней, и ныне находящаяся под отчим кровом, исполнена отрады и славы. Не только свет Православия излучали обительские станы среди глухого полуязыческого края, не только была она центром культурно-просветительной работы, — история ее в тот период, когда вблизи ее пролегала граница, это история почти непрерывной борьбы за веру и Родину с исконными недругами Руси.
Гравюра столетней давности изображает довольно пустынную местность, несколько редких низеньких изб под широкими рябинами, косогор, покрытый кустарником. Над косогором высится мощная круглая башня, от нее крепостная стена с одной стороны идет косо вниз, с другой, под прямым углом, уходит прямо вдаль, к собору и виднеющимся за ним главкам двух церквей. На первом плане,—два крестьянина в лаптях и высоких гречневиках, богато одетый всадник в шляпе и странник с посохом в руке и сумой за плечами, бредущий по изрытой дороге.
С тех пор, как смотрел на монастырские стены неизвестный художник, неузнаваемо изменился пейзаж. Нетронутыми остались лишь эти древние стены, Тайловская крепостная башня, величественный Михайловский собор, да две «верхних» церкви—св. Варвары и Сорока мучеников Севастийских. На месте бедных покосившихся изб под печальными рябинами встали большие светлые дома со школами, прекрасным тенистым сквером, правительственными учреждениями, электростанцией и всеми аттрибутами современного города, а изрытая дорога превратилась в широкую асфальтированную улицу, которая за городской чертой переходит в шоссе на Псков и Ригу.
Именно по этой дороге двигались когда-то к монастырю тяжелые золоченые кареты знатных гостей, кареты митрополитов, здесь проходили богомольцы. С противоположной стороны эта дорога была вечной угрозой вражеских нашествий и разорения, именно по ней двигались на Русь жадные и злые рати Ливонского ордена, немецкие и шведские, литовские и польские, румынские и венгерские полчища, именно сна часто заставляла здешнего монаха отложить в сторону требник, чтобы взяться за копье, колчан, самострел, за затинную пищаль, за порох и тяжелую свинцовую дробь,—ради веры и Родины. На этой дороге, оставив стены обители, иноки и ратные люди монастырского гарнизона перехватывали неприятельские отряды, ловили иноземных разбойников, разорявших край, отбивали обозы с награбленным русским добром. Здесь в тяжелую годину осажденного Пскова монастырские люди захватили крупный транспорт, везший боевые припасы войскам Стефана Баторня из Риги, взяли в плен весь вражеский отряд и самого его начальника— королевского поверенного Иоахима, освободили полоненных собратьев и нашли в обозе два колокола, снятых грабителями с церкви на Напольном погосте,—с тех пор вот уже без малого четыреста лет с монастырской звонницы поют освобожденные колокола над полями и лесами печорскими. Эта вылазка привела «в свирепство» самолюбивого короля и стала причиной жестоких боев на самих монастырских стенах. Но яростные штурмы, подкопы, пушечный огонь не поколебали мужественной стойкости монахов и ратников. Тогда под стены обители прибыл сам «великий гетман» 3амойский со «льстивой грамотой» короля и приложением к ней православной иконы, тоже украденной где-то коварными пришельцами. С королевским представителем от имени монастыря вел переговоры схимник Патермуфий. Переговоры привели к единодушному решению осажденных «и последнюю каплю крови последнего защитника пролить на святых стенах ради веры православной и земли Отеческой». Больше двух месяцев длилась осада, и была снята.
Более пятидесяти настоятелей исчисляет монастырская летопись, и среди них, после преподобного Корнилия, главного устроителя обители, особенно отмечает она заслуги прямых преемников преподобного — Саввы и Сильвестра, бывших игуменов Святогорского монастыря, Трифона, впоследствии митрополита, Кирилла-Иерусалимита, Геннадия, «славяно-латинских во Пскове школ ректора», Йоасафа, — иеромонаха, потом архимандрита монастыря, в дальнейшем архиепископа Псковского, а с 1634 года Патриарха всея Руси.
Воркуют голуби под застрехой белой монастырской звонницы и крылатый ангел предупреждающе указывает перстом на часы. Горят в солнце золотые маковки и кресты соборов и церквей, шумят над ними вековые дубы, а внизу мохнатые недвижные, зачарованные ели окружили святой колодезь, за льдисто-холодной прозрачной водой которого издалека приходят местные люди. Здесь, в глубинном затишье, теплее, чем наверху, ai по ночам небо темнее и звезды многочисленнее и ярче. Тихо журчит-звенит. родниковый ручеек Каменец, некогда бурная, своенравная, стремительная река, оставившая по руслу своему след далеких времен в виде глубоких оврагов, ущелий, террас и провалов. Перед стеною древней ризницы висит на цепях большая железная кованая дуга. Это — вечевое било Великого Новгорода, отнятое Иваном Г розным у вольного города после его «укрощения» и подаренное им Псково-Печорскому монастырю. Билу, по заключению специалистов, от семисот до восьмисот лет. Немалых страстей человеческих было оно свидетелем. Можно и сейчас ударить по краю дуги, послушать звон била,—тревожный, набатный, гулкий, долгий.
Чужд мирских волнений и целительно-чист воздух обители, и тихая северная русская природа сливается с людьми, живущими в истинном братстве, в мире добротолюбия и доброделания, в молитве, труде и мире так же, как жили они и столетия назад,— сливается в такой гармонии, что иногда покажется — время не существует, и вот сейчас, в этот тихий вечер на истертые плиты монастырского двора выйдет из кельи, выбитой в скале, неведомый современникам нашим схимник Патермуфий, ведший переговоры С ясновельможным паном Замойским вот с этих самых стен, широко перекрестится, поклонится перед вратами Успенского собора и присядет на скамеечку у новгородского била — погреться на солнышке последних летних дней...
Да, время потеряло здесь свою власть. Вот он, слегка согбенный, сухой, вышел из выдолбленной в скале пещерки, своей кельи, прищуренными с темноты глазами окинул пустынный, залитый вечерним светом, монастырский двор, с поклоном широко перекрестился перед вратами храма и медленной походкой направился к скамеечке перед широкой железной дугой на цепях, перед большой клумбой под нею с пышными разноцветными астрами, гладиолусами и бархатно-темными анютиными глазками. На нем черный куколь и мантия с белыми гробовыми позументом, крестом и адамовой головой над крестообразно сложенными двумя человеческими костями. А лицо схимника — лицо необыкновенной мягкости, легкой усталости и доброты — ничем не похоже на лицо аскета в западном понимании этого слона. Длиннопалая старческая рука, мозолистая и вместе с тем мягкая, как бы ищет человеческую голову — утешить, приободрить, приласкать.
Иеросхимонаху Симеону восемьдесят четыре года. Он, по словам его, из «низовых» людей, как, впрочем, и преимущественное большинство иноков,—в миру был столяром-краснодеревцем. Еще и сейчас в маленьких сенцах перед его кельей стоит верстак и полка над ним полна резцов, долот, стамесок, лекал и точных маленьких фуганков, и в часы, свободные от молитвы, он всегда что-то выпиливает, выдалбливает, вырезывает, подгоняет, околачивает, склеивает, а тридцать шесть тяжелых каменных, украшенных орнаментом, тумб, держащих цепи, которыми опоясаны монастырские колодцы и цветники, — тоже труд его прилежных и неутомимых рук.
Провидцем слывет у верующих людей края отец Симеон,— многие его советы в делах — и общественных, и личных, интимных, сложных — сбываются подчас в полной точности.
— Да совсем я не прозорливец, — с легким смущением, с мягкой досадой в голосе говорит он. — Великий дар прозрения дает Господь избранникам Его, а тут просто долголетие мое помогает,— зашел в дом раньше других, вот и порядки его лучше знаю. Приходят ко мне люди с горестями своими и сомнениями, а взволнованный человек подобен ребенку, он весь на ладони. Случилось с человеком несчастье, вот он и точность душевных очей теряет, впадает либо в уныние и робость, либо в дерзость
и ожесточение. А я и мирской круг хорошо знаю, и жизнь прожил долгую, и сам Господней силой огражден от бед и соблазнов, и как же мне в меру малых сил моих не поддержать брата моего, спутника на земной дороге, когда он притомился раньше, чем я...
Улыбка ложится на иссеченное морщинами лицо, из-под густых, сильно выступающих вперед бровей живо вспыхивают светлые глаза.
— Всяческой малостью, суетой, неведением, слепотою люди омрачают чудо,— поворачивается он к собеседнику.— Дивный дар Господень — человеческая жизнь! Не купишь ее, не заработаешь, — на, человек, прими награду бесценную!.. Радость, радость, великая радость, — неторопливо протягивает он руку к горящим в закатном солнце золотым рипидам перед куполами собора, к вековым липам наверху, ко всему безмятежью, которым дышит этот тихий час уходящего дня.
Люди, которые в миру вероятно никогда бы не встретились, люди разного происхождения и среды, различного воспитания, образования, культуры, возраста под сенью обители сожительствуют истинно по-братски, в молитвенном подвиге, в неустанном труде, в строгом послушании и ничем не омрачимом единении.
Архимандрит Пимен, наместник Лавры,— достойнейший преемник епископа Владимира, которому досталось в трудный удел восстанавливать монастырь, значительно пострадавший от фашистских бомбардировок. За три последних года, при новом наместнике обитель еще больше благоустроилась. Сам о. Пимен по монастырскому счету «очень молод»,— ему всего сорок два года. Родился он в интеллигентной семье, сын инженера, окончил светскую школу — литературовед, а вместе с тем и знаток живописи, и сам любитель-художник, изограф. Авторитет его среди братии очень высок. Рачительный хозяин, он неутомим, его видишь, кажется, одновременно во многих местах обширного монастырского хозяйства, где в каждую малую подробность вникает он со всей тщательностью. Служения его отличаются исключительной торжественностью, строгостью и многолюдством. В личном общении он покоряет простотой, приветливостью, доброжелательностью, сердечностью. Из интеллигентной среды вышел и ближайший помощник и правая рука наместника, монастырский благочинный, архимандрит Сергий. Разносторонне образованный, он и филолог, и медицинский работник, и, как ни покажется странным такое сочетание, музыкальный деятель,— в миру был оперным артистом. Личное тяжкое горе привело его к стенам обители,— почти одновременная смерть любимой жены и единственного ребенка. Но душа его не надломилась, обитель спасла от уныния. Живой, горячий, непосредственный, своими страстными проповедями, пронизанными любовью к родной Церкви и великой Родине, он захватывает сердца молящихся, а голос его, исключительный по звучности, гибкости, культуре слушаешь с высоким наслаждением Диплом высшей школы имеет и хранитель «пещер Богом зданных» иеродиакон Всеволод, историк по светской специальности и одаренный, увлекающий слушателей, экскурсовод по знаменательным местам обители.
Благочинного зовут иноки «большой отец Сергий». А есть среди братии и «маленький отец Сергий» — иеромонах, келарь. Коренастый, подвижной, в стареньких больших сапогах и выгоревшей скуфейке, он не пропустит ни одного человека, не поклонившись ему, не улыбнувшись, не сказав хорошего, теплого, сердечного слова, и передается усталому путнику-богомольцу, и волнует и ободряет его эта радость, трепетно бьющая из-под старинных очков в простой железной оправе...
Тянутся сердца паломников к доброму пасечнику обительскому, иеромонаху отцу Исаакию. В уединенном месте «нижнего» сада, у крепостной стены светятся белыми и голубыми стенами ульи, стоит в тени берез дубовая скамья, жужжат пчелы, запах трав сложно переплетен, густ, прян. Нынче восемьдесят лет исполнилось отцу Исаакию, но в этом возрасте еще посильно работают иноки, только плоховато у батюшки со здоровьем, оттого и поставили его на нетрудное и исстари знакомое ему по мирской жизни дело. Он и летом в серых валеночках, голос у него слабый, воркующий, голубиный, волосы, как он говорит, уже «отседели», желтеют. Паутинно-легкие, они светятся на солнце и окружают его голову как нимб. Сетку за работой он не надевает, но она у него всегда под рукой.
— Пчелка иной раз и ошибиться может, испугаться, осерчать. Работу выполняет она для мира общеполезную и трудную, к тому же торопиться ей надо, время не упустить, вот оттого и нрав у нее такой, горячий и обидчивый.
— А мед уж кончился, отец Исаакий?
— Да нет, милый гость, еще берут наши благодетельницы. С вереска теперь свое богатство носят. Но это уже последний взяток. А начальный идет в месяце апреле. Там верба, орех, ракита. В мае второй мед приходит, тут уже пчелкам полное раздолье,— вишня цветет, яблоня, груша, зовут ее к себе крыжовник и смородина. Третий мед, самый благодатный, пахучий, сладкий, липовый вступает в июне. В то же время берет пчелка и с клевера, но только с белого, с красного ей не достать, хоботок мал, краток. Там пойдет мед четвертый, июльский. Он с гречихи берется, темноватый, как и самый злак. Тут в деле на помощь пчеле встает и сурепица. Этот мед горьковатый, ежели пробовали, на особый вкус, кто любит. Ну, а уж после Ильина дня начинается последняя сладость, в году завершительная,—с борового вереска. Вот, ближний мой, сколько работы-то труженице нашей!
— Вы, отец Исаакий, наверное все деревья, все травы, все цветы знаете?
— Что ты, что ты, пригожий мой! Их один только Господь Всеведущий знает. Сколь безмерна земля наша, и сколько на ней стран равных, и в каждой свое произрастание, от солнышко зависимо.
Жужжит медогонка, бьет сильная и теплая струя медового воздуха, соты под стремительным вращением отбрасывают мед к стенкам нехитрой машины, он стекает вниз—вязкий, ароматный, того же густого золотого тона, как и луковицы и кресты монастырские...
Канун основного праздника монастырского — Успения Божией Матери. Заняты не только монастырская и городская гостиницы, но и свободные помещения в домах горожан, а поток богомольцев нескончаем и все ширится. Едут по железной дороге и на лошадях, идут пешком за тридцать—пятьдесят—сто километров. И не только местные люди,—вот уже приехали старые почитатели Лавры из Архангельска и Краматорска, Кировска и Ленинграда, Рязани и Москвы, из Белоруссии и Карело-Финской республики.
Уже с утра на верхней зеленой поляне перед Михайловским собором, прямо на траве под огромными плакучими березами расположились живописные группы местных богомолок, окружая горы свежих цветов. Быстрые умелые руки вяжут гирлянды и венки, встряхивают тяжелые влажные ароматные снопы, подбирают цветы по тонам, составляют пышные богатые букеты. Лица просветлены, сосредоточены, серьезны,— работа идет не для утехи, принесены цветы в дар Пречистой.
Постепенно главный двор, склоны, дорожки, аллеи заполняются празднично одетыми людьми. Чинность, торжественность, сдержанность, душевный подъем, что-то предпричастное в человеческих взорах. Попечения, заботы, тревоги оставлены за стенами Лавры. Здесь только тихая радость от встречи с древним православным сокровищем, умиленное любование красотою русской, дивной, таяние сердца и ласковое единение людей, взволнованных одними чувствами.
День на склоне. Начинается всенощная. Служба идет на открытом воздухе перед Успенским собором. Каменная площадь вознесена на высоту человеческого роста и перед людским морем, разлившимся по обширному монастырскому двору, чин служения предстает во всех подробностях. Святыня обители, первая ее икона, ныне чествуемая, вынесена из храма еше днем, после малой вечерни, и, благоухающая, озаренная огнем бесчисленных свечей, стоит у стены собора. Идет старинный обряд украшения святыни. Пышные длинные цветочные гирлянды ложатся поверх массивного кивота, концами ниспадая к подножию иконы, ложась на цветочные холмы, которые непрерывно растут. Цветы текут над неисчислимой толпой, из задних рядов прибывают все новые и новые дары, передаются вперед как свечи, через правое плечо стоящего впереди; и великолепные букеты садовых цветов, и скромные пучки полевых — одинаково знаки молитвенного преклонения.
Пение усиленного хора особенно стройно и мощно в вечернем воздухе. Лица молящихся в большинстве крестьянские, крепко пропеченные солнцем. Головные шелковые платки женщин—пунцовые, зеленые, синие, желтые, белые — рисуют прихотливо-сложную гамму. Много эстонок. Они в старинных национальных костюмах — длинных, тесно перехваченных в талии, белых свитках, расшитых серебряной, красной и зеленой ниткой, в серебряных ожерельях, в оригинальных головных уборах, напоминающих русские кики боярских времен.
В котловине начинает темнеть, свет свечей в руках богомольцев становится ярче. Сверху, через широкое «окно» в зелени у Михайловского собора, это зрелище непрестанно играющей, мерцающей, переливающейся световой заводи изумительно по своеобразию.
Кончается лития. Икона Владычицы медленно поднимается и тихо движется но площади. Непрерывной цепочкой склоняются, проходят под ней богомольцы. Под пение хора процессия, озаряемая трепетным, заревым светом свечей, поднимается к Никольским воротам и дальше — к Михайловскому собору.
Святыня воздвигается на паперти собора. Всенощное бдение продолжается.
Вечер мягок и долог, служба длительна и торжественна. Еще на западе не до конца угасла заря и снизу отчетливо различима чуть розовеющая в полумраке стена Михайловского, собора, под сводами Никольских ворот стоит вишневое зарево перед иконами, свет лампад таинственно прекрасен за почерневшими к ночи деревьями аллеи. В безмолвие великолепное, зачарованное, гармонически входит лишь едва доносящееся из храма пение хора, да отрадный, успокоительный шум дубравы на Святой горе.
Крепостной ров, вырытый по приказу Петра и тянущийся вдоль монастырской стены, полон водою, вода заросла зеленой ряской, на которой белеют фарфоровые нежные чаши водяных лилий. Между рвом и стеною лежит широкая зеленая поляна. К ночи вся она занята группами паломников, не нашедших пристанища в городе и в монастырской гостинице. Идут тихие разговоры, воспоминания о недавно отгремевших бурях. Далекие прадеды вот этих самых богомольцев, собравшихся сегодня у древней монастырской стены, отважные ратные люди Ивана Грозного, сражались с немецкими разбойниками-рыцарями на стенах обители. Сами сидящие, среди которых немало инвалидов второй Отечественной войны, в регулярных ли войсках, в партизанских ли бесчисленных отрядах отстаивали Родину, а многие и родимый край и древнюю его святыню. За многовековую историю этой, некогда окраинной русской земли минувшая война была для псковских людей двадцать седьмой схваткой с жестокими тевтонами... Вот так, в тихих разговорах, в предпраздничном подъеме, в коротенькой легкой дремоте пройдет время до двух часов утра, до первого колокольного удара, до утрени.
Ночь бархатно-темная, мягкая. Земля отдает ночи дневное тепло, цветы — аромат. Белая звонница каждую четверть часа роняет хрустальный перелив звона в тьму ночи. А утро приходит жемчужное, теплое, с сияющей листвой, с легким перемежающимся «грибным» дождичком.
В шесть часов утра в Сретенском храме начинается первая литургия. Она идет на эстонском языке — для гостей. В восемь часов колокольный звон извещает о начале средней литургии в Успенском соборе. Еще через два часа духовенство, собравшееся в Михайловском соборе, встpeчaeт прибывшего на праздник епископа Таллинского и Эстонского Романа. Позднюю литургию архиерейским служением совершают епископ Роман и постоянно проживающий в монастыре епископ Гавриил, в сослужении и многочисленного духовенства, черного и белого, монастырского и приехавшего поклониться святыне.
К этому времени скопление народа значительно большее, чем накануне. Уже не пробиться через Михайловскую площадь — собор не вместил и малой части молящихся. Занят и нижний монастырский двор. Долгая очередь выстроилась у колодца перед большой каменной чашей. Над чашей стоит крест, из креста бьет трехструйный фонтан. Люди омывают лицо, пьют воду, наполняют ею бутылки, пузырьки, фляжки, понесут ее отсюда по окрестным деревням и селам, повезут ее в дальние концы необъятной русской земли, — чистую, прозрачную, необыкновенно вкусную, многими почитаемую целебной.
В нижних храмах, в верхней церкви «Николы-Вратаря», на открытом воздухе перед прославленными иконами обительскими непрерывно идут молебны. Непрерывно поет монастырский воздух. Неслыхана и феерически прекрасна эта симфония то затихающих, то вспыхивающих с новой силой, перекликающихся во всех концах обители, хоров. Дождь кончился, в синих просветах неба показывается солнце, сверкает, играет в нем влажная зелень, ясен воздух. Люди одеты в самое лучшее, что у них есть, их лица взволнованно-праздничны, светлы. В общем подъеме чувствуется что-то пасхальное, радующееся и радующее. Многие держат в руках букеты и целые снопы цветов. Многие целуются, поздравляют друг друга, приглашают в гости после крестного хода.
Ровно в час дня обе монастырские звонницы и колокольни города взрывают воздух многоголосым, сильным, щекочущим уши, трезвоном. Словно серебряная сверкающая ткань трепещет над Лаврой. Звонят все колокола. Вот он, «красный звон», которым славится монастырь! Вдруг вся огромная многотысячная толпа подхватывает древний русский напев. Он ширится, множится, растет, достигает необыкновенной силы — торжественный, радостный, ликующий — и отчетливо слышны слова акафиста:
«Царице моя Преблагая,
Надеждо моя. Богородице!..»
Этот напев передается в крае из поколения в поколение, он звучал здесь и двести, и триста лет назад, под ливонцами и поляками, под шведами и немцами, в годы угнетений и народного горя, звучал и совсем недавно, в могильной тьме фашистского полона. Сейчас в нем слышна радость вновь обретенного отчего крова, благодарность за избавление от четвертьвековой неволи, уверенная надежда, что уже навсегда безоблачны будут небеса над исконною русской землей, навсегда впереди — только мир, свобода и независимый труд...
Сердце обители, икона Успения поднимается и медленно идет плывет к Святым воротам. Под переливчато-радостный трезвон, под пение неисчислимо-огромного хора проходит она, слегка покачиваясь, принимая движение живых человеческих плечей, над новой бесконечной цепью опускающихся перед нею на колени богомольцев, — тяжелая, восемнадцатипудовая,— как ходила некогда для спасения древней святорусской земли и при Стефане Батории, и при Наполеоне до самого Пскова, чтобы благословить мужественных защитников веры и Родины на бранный подвиг, укрепить их веру в правоту своего дела.
«Царице моя Преблагая,
Надеждо моя, Богородице!..»
Уже за Святыми воротами, предваряемые множеством хоругвей и крестов, движутся все восемь прославленных и чтимых икон обители. Золотые, малиновые, голубые мантии и ризы, митры, блеск золоченых хоругвей и иконных окладов, цветы, кадильный дым, пение хоров и нескончаемый человеческий поток. Вот уже прошло десять минут, двадцать,вот уже полчаса, а все еще не видно конца торжественной процессии.
Кресты и хоругви скрылись за углом монастырской стены, за круглой Тайловской башней. Крестный ход медленно движется по новому мосту через Каменец, еще медленнее поднимается по противоположному склону, вновь сворачивает налево и мерно движется вдоль стены, крепостных бастионов петровских, густых зарослей орешника. Светло-золотое поле покрыто широкими скирдами, раскинулось в стороны и вдаль до голубой гребенки леса, высокие одиночные сосны стоят в величавой неподвижности, вдали, в балке, рассыпалась нарядными домиками деревня Пачковка, о которой не раз упоминает монастырская летопись, вдали опять синеют леса. И надалеко окрест разносится стройное пение, звенят вдохновенные слова акафиста Пречистой, и вновь раскатывается по золотым полям Псковщины, возносится к небу это щемяще-сладостное, ликующее, благодарное:
«Царице моя Преблагая,
Надеждо моя, Богородице!..»
Вдоль всего пути, по горам, в ложбине, по гребню обрыва расположились группы нарядно одетых людей, встречающих процессию глубокими поясными поклонами. За широкими взмахами кропила в воздухе на мгновение вспыхивает радуга. Вот голова процессии показывается на вершине горы, вот медленно движется ко дну ложбины, вернее, ущелья, к руслу Каменца, уже с другой стороны монастыря, к башне «у Нижних Решеток», а наверху переваливает через гребень, все течет и течет пестрый человеческий поток, и все заливаются серебряноголосыми жаворонками в небе колокола.
Блеск хоругвей, сверкание иконных окладов, золотая и малиновая парча мантий и риз и это дивное пение сливаются с просторами полей, лесами, холмами, монастырской древней стеной в таком согласии, в таком завершенном видении исконной русской красоты, что вновь и вновь, как при встрече со схимником, покажется, что время не существует, что это та же, что к сто, и двести, и триста лет назад, вдохновенная толпа движется вот за этими, веками смоленными, сокровищами обительскими, под ликующий звон все тех же колоколов.
Но вот пение еще торжественнее, трезвон еще радостнее. Процессия одолевает последний подъем и выходит на площадь, к Сзятым воротам: Круг завершен.
Еще полчаса, — и оживленные цепочки людей тянутся от Лавры. Улицы звенят бодрыми человеческими голосами. В руках участников торжества просфора и непременный цветок «от Владычицы». Горожане направляются по домам, к праздничному обеду, паломники располагаются на трапезу у монастырских стен.
День склоняется к концу. Опустели коновязи. От живописных Печор во все стороны бегут крепкие сытые отдохнувшие лошади, от станции доносится прощальный гудок паровоза, за которым тянется длинный переполненный состав, и по всем дорогам,—на древний Изборск, на Лугу, на Дно, к Даугавпилсу, к Тарту и в сторону Риги движутся пешеходы.
Но так хорошо, так глубоко-мирно, отрадно, тепло в обители, что часть богомольцев остается еще на день-два, чтобы глубже запала в сердце память о ней. Нет. сегодня ни минуты отдыха историку-экскурсоводу отцу Всеволоду, — длиннейшая очередь выстроилась перед «пещерами, Богом зданными». По зеленым склонам котловины всюду расположились гости. Непрестанна перекличка людских голосов и в большом монастырском саду на Святой горе.
...Группа людей, прибывших, по-видимому, издалека, стоит на вершине холма, у беседки, и невольно думается, — за спиною стоящих до самого полюса, до Охотского моря, до Памира раскинулась огромная советская земля. Она не только определяет сегодняшний день человечества, не только строит свой и его завтрашний день, — она бережно охраняет и дары дня вчерашнего, свою многострадальную, но славную, многовековую историю и ее сокровища.
А вперед бегут к горизонту широкие дали. Некогда вот эти выкрошившиеся каменные стены обители, лежавшей по окраинной русской черте, сдерживали набеги свирепых врагов, и полны угроз и опасностей были сказочно-чудесные голубые дали. Сейчас спокоен, полон достоинства и удовлетворения взгляд советского человека, обращенный к этим далям. Навсегда укрощены коварные балтические волны,—протянулась советская земля до Таллина и Риги. Злое змеиное гнездо пруссачества обезврежено советскими бойцами, а веками зловещий надменный Кенигсберг получил имя одного из самых честных, совестливых, умных, свободолюбивых, культурных и мирных людей на свете.
Но враги великой советской страны отброшены далеко за ее границы. По ту сторону этих границ на западе и на востоке живут сейчас добрые соседи-друзья, тоже познавшие, что основная ценность человеческой жизни есть мир, свобода и независимый труд, и начертавшие на государственном знамени своем девиз высокого благородства, девиз, впервые за всю историю старой нашей планеты громко и всенародно провозглашенный на советской земле, — христианский девиз: «Человек человеку, — брат»!
Р. ДНЕПРОВ.