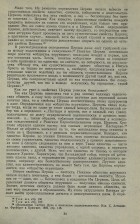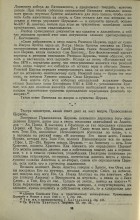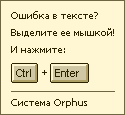ОТХОД ВАТИКАНА ОТ ОСНОВ ХРИСТИАНСТВА
«Пусть все исповедывающие Христа узнают, что есть в мире Единая, Святая, Соборная, апостольская, Православная Церковь, ведущая к вратам Царствия Божия в неисчерпаемом изобилии обладающая всей полнотой благодатных даров Святаго Духа».
Святейший Патриарх Алексий [1].
Ватикан исказил основы христианства и, главным образом, основы екклизиологии, т. е. учения о Церкви.
Между тем, после вопросов Христологии вопрос о Церкви — самый существенный для христианской жизни, и только с точки зрения учения о Церкви могут быть ясны для каждого все заблуждения Ватикана.
По слову Иисуса Христа, «если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Ио. 3, 3). Христианин, по Апостолу Павлу, должен быть «новой тварью» (2 Кор. 5, 17), «новым человеком» (Ефес. 4, 24). Где и как происходит это перерождение человека из ветхого в нового? Митрополит Московский Филарет так отвечает на этот вопрос: «Если естественное рождение Сам Христос представляет образом духовного и если для естественного рождения нужна матерняя утроба, то и для духовного рождения не нужна ли матерняя утроба, не в буквальном значении сего слова, как думалось Никодиму, но в высшем, соответственном предмету? Сей вопрос и оправдывается, и разрешается одним разом, если скажем, что матерняя утроба и сокровищница жизни для нового человека есть Христова Церковь». [2]
Что же есть Церковь Христова, и каким образом она рождает чад свободы и благодати? «Отходя от мира сего, — говорит тот же святитель, — последнюю с Апостолами беседу Христос заключил молитвою о новосозидаемой Церкви Своей. Всем верующим в Него просил Он от Отца Своего Небесного единения в вере и любви между собою, восходящего до единения с Самим Богом: «да вси едино будут: якоже Ты, Отче, во Мне и Аз в Тебе, да и тии в Нас едино будут» (Иоан. 17, 21 )». [3] Единство верующих Христос поставил необходимым условием входа в Царство Божие. Если кто падает, то падает один, но никто не спасается один. Самое падение — не что иное, как отпадение от единства многих. Поэтому каждый спасается непременно в единстве со многими, «так что, если кто и мнится иметь веру, но не держится великого единства всех верующих, за такого весьма надобно бояться, чтобы он не остался вне действия спасительной молитвы Христовой, а следовательно, и вне спасения; ибо нет сомнения, что спасутся токмо те, за которых принес молитву Свою Ходатай Бога и человеков и над которыми она исполнилась. Посему-то и Апостол, увещевая христиан поступать достойно своего звания, увещевает соблюдать единство (Еф. 4, 1—3). Открывая основания христианского единства и убеждая к соблюдению оного, Апостол присовокупляет: «едино тело, един дух, яко же и звани бысте во едином уповании звания вашего; един Господь, едина вера, едино крещение; един Бог и Отец всех, Иже над всеми и через всех и во всех нас» (Еф. 4, 4—6)» [4]. Апостол указует внутреннейшее средоточие и крайний верх единства церковного во Едином Боге Отце... Более открытый источник единства церковного, по учению Апостола, есть Един Господь Иисус Христос, Который и нарицается в том же послании Главою Церкви, соответственно называемой телом Его (Еф. 1, 22—23; 4, 15—16)» [5].
Таким образом, в молитве Иисуса Христа: «да будут вси едино», как едино — Отец и Сын, определена вся сущность христианской жизни. Для установления такого именно единства верующих и создана Христом Церковь: «Созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют ей» (Мф. 16, 18). Отсюда, цель Боговоплощения, дело земной жизни Иисуса Христа — создание Церкви, т. е. «матерней утробы», в которой воссозидалось бы единство рода человеческого, нарушенное первородным грехом. «У людей, — пишет св. Василий Великий, — не было бы ни разделения, ни раздоров, ни войны, если бы грех не рассек естества...». И «это главное в Спасителевом домостроении во плоти — привесть человеческое естество в единение с самим собою и с Спасителем и, истребив лукавое сечение, восстановить первобытное единство, подобно тому, как наилучший врач целительными врачествами вновь связывает тело, расторгнутое на многие части».[6] Первобытное единство должно быть восстановлено именно на основе единства лиц Пресвятой Троицы. «Смотрите, — говорит св. Киприан, — какое Христос имеет желание: да и мы пребываем в том самом единстве, в каком Отец и Сын едино»[7]. Такое единство верующих во Христа и призвана осуществить созданная Христом Церковь.
Естественно отсюда, что «вопрос о существе Церкви должен занимать первое место в богословских системах», — как справедливо говорит исследователь этого вопроса Е. Аквилонов [8]. И не только, — добавим, — и не столько в богословских системах, сколько в самой жизни христиан.
Тем не менее, почти до отпадения Запада от единства Христовой Церкви, религиозное сознание было занято христологическими вопросами. «Восток прежде всего сосредоточил свое внимание... на Личности Христа Спасителя», — так как в правильном взгляде на Него заключалась «судьба всей жизни и будущности христианства» [9]. Сокровищница жизни — Церковь была фактом, из которого выходили защитники православия в борьбе с ересями.
«Средневековые богословы также не изложили в своих сочинениях учения о Церкви. Даже у Фомы Аквината и у Бонавентуры нет обстоятельного о ней исследования». [10] И только «временем западной церковной реформации открывается (по крайней мере, для инославных исповеданий) настоящая пора расцвета научно-богословской литературы по вопросу о Церкви». [11] Но Запад развил учение о Церкви, уже отпав от единства Христовой Церкви. «Все же, что только отделилось от матерних недр, не может само собой ни жить, ни дышать; теряет главную основу спасения». [12] Поэтому Запад развил учение о Церкви не библейское, а свое, новоизмышленное. И ни в чем другом, а именно «в вопросе о Церкви заключается вся сущность разногласий между Православием и его противниками». [13] Отсюда, сопоставление православного и римского учения о Церкви не только вполне естественно, но и необходимо нужно, так как Запад к тому же незнаком с Православием. Известный путешественник А. Н. Муравьев писал в своих письмах: «Можно сказать вообще и без исключения, что духовенство Западное, будучи глубоко наставлено во всем, что касается собственной своей Церкви, совершенно невежественно касательно Востока; и человеку, несколько сведущему, совестно слушать, что они говорят о нашей Церкви и родине» [14]. А. С. Хомяков отмечал, что «для западного мира... неведома... религиозная мысль сынов Церкви». [15] В наше время Святейший Патриарх Алексий свидетельствует: «До сих пор правды о Православии не знает большинство христиан». [16] Ватикану «кажется, с одной стороны, что православные не знают и не оценивают подобающим образом великих достоинств Римской Церкви; с другой стороны — что в особенности верно — сами римо-католики незнакомы достаточно с Православием», — говорит проф. Ф. Попеску. [17]
Таким образом, сопоставление учения о Церкви Востока, с одной стороны, и Запада в лице Ватикана, с другой, вполне оправдано. Оно наглядно покажет каждому верующему, где содержится истина.
Итак, перед нами жизненно важный вопрос: что есть Церковь по существу? Посмотрим, как этот вопрос решает Римская Церковь, т. е. Ватикан. В римских катихизисах Церковь определяется, как «собрание верующих, соединенных между собою исповеданием Христовой веры и общением церковных таинств, под управлением законных пастырей и, преимущественно, единого на земле Христова наместника, Римского Первосвященника». [18] «Беллярмин (Eccl. milit.) писал, что «Церковь есть общество людей, точно так видимое и осязаемое, как и общество римского народа»; что понятие о Церкви условливается «исповеданием веры, таинствами и повиновением папе»: что из Церкви исключаются «только неверующие, еретики и отступники — раскольники, которые не покоряются законному пастырю (папе)». [19] В энциклике 1894 г. папа Лев XIII писал, что Церковь есть «совершенное общество», установленное Богом в поучение всему человечеству». [20]
Остановимся на этом определении Церкви римским богословием. «Наименование Церкви «обществом верующих», — замечает Е. Аквилонов, — не есть логически-правильное определение всецелого ее существа, а только простое его описание. Это описание говорит нам лишь о том, из кого именно состоит Церковь? — из верующих, — и ничего более. Но сами по себе верующие суть только составная часть Церкви, в известном отношении только материал, из когорого... составляется самая Церковь... Так, для понимания существа Церкви необходимо, прежде всего, знать основной закон, план и стиль ее строения, а затем уже иметь в виду и данный материал, как одно из важных предположений для существования самой Церкви». [21] «В разбираемом определении, — говорит далее тот же исследователь, — кроме того, не выражено самого главного и самого существенного, чем всецело обусловлено бытие самой Церкви, а именно, не выражена мысль о том, что Христос есть Глава Церкви, и Той есть Спаситель тела (Еф. 5, 23)». [22] И, наконец, нельзя допустить, что это главенство будет походить на «главенство представителей внехристианских религий в основанных ими религиозных обществах». [23] Между тем, определение Церкви как «общества верующих» именно низводит Главу Церкви — Христа в разряд основателей естественных религий, подобно Будде, Магомету и другим, так как «общество верующих», как бы оно ни было совершенно, все же является одним из многих других обществ. В самом деле, христианских обществ множество. Главой какого же из них является Иисус Христос? Если сказать, что Главою православного общества, то и православных обществ много. Таким образом, «вопрос о возглавляемом Иисусом Христом обществе верующих остается нерешенным», так как «невозможно утверждать..., что Иисус Христос есть Глава каждого из христианских обществ порознь». [24] Отсюда само собой вытекает такое заключение: «Определяемая в смысле «общества верующих» Церковь мыслится существующею не в подлинной зависимости от своей Божественной Главы — Господа Иисуса Христа, а потому и св. Таинства, распределителем и совершителем которых, по учению Православной Церкви, является Сам же вечный Первосвященник, не поставляются в должную от Него зависимость». [25] Св. Таинства являются показателями жизни Церкви, но какая их связь с существом Церкви, данное определение не говорит. Кроме того, оно ничего не говорит ни об отшедших из этой жизни, ни об ангелах.
Остается еще один пункт в римском определении Церкви, на который следует обратить внимание, это — повиновение папе, признание его «единым на земле Христовым наместником». Вот этот пункт — и только он один — имеет прямое отношение к определению Церкви, как «общества верующих». Как видимое общество, Церковь требует для себя и видимую главу, каким и был провозглашен римский папа на Флорентийском (1439) и Ватиканском (1870) соборах.
Итак, анализ определения Церкви, как общества верующих, показывает, что это. определение не дает надлежащего понятия о существе Церкви. Оно не ставит ее в подлинную зависимость от ее Основателя и Главы Иисуса Христа, в силу этого не указывает и не может указать, какова связь св. Таинств с существом Церкви, как «общества верующих». Зато это определение устанавливает всецелую зависимость «общества верующих» от римского папы, как его главы, без которой не может существовать само это общество.
Мало того. Из римского определения Церкви нельзя вывести ее существенных свойств: единства, святости, соборности и апостольства. Церковь немыслима без этих свойств, а они — беспочвенны без своего носителя — Церкви. Как известно, существенные свойства каждого предмета вытекают из самого его определения, если только оно правильно. Это же самое нужно сказать и о Церкви. «Если определение Церкви, действительно, отвечает своему предмету, то посредством анализа нетрудно будет произвести из него существенные свойства Церкви; в противном случае,.. никакой, хотя бы самый строгий и кропотливый анализ не поможет логически доказательно открыть ни одного из четырех свойств Церкви». [26]
В рассматриваемом определении Церкви даже «нет требуемой связи между подлежащим и сказуемым». [26] Понятие Церкви несомненно шире понятия «общества верующих»; последнее входит в первое, как его составная часть. Затем, понятие «общество» никак не содержит в себе признаков: ни единства, ни святости, ни соборности, ни апостольства. «Между тем, как существованием одного общества в Иисуса Христа не только не отвергается, а, наоборот, предполагается существование многих подобных же им обществ, существованием Церкви решительно исключается мысль о возможности другой такой же, как она, Церкви, ибо совершенствами одной из них ограничивались бы совершенства другой, так что в выводе получилось бы отрицание... самой Церкви». [27]
Как же учит о свойствах Церкви римское богословие?
Так как Церковь низведена там в ряд земных видимых человеческих обществ, в силу чего центральное значение для церковной жизни получил папа, то и свойства Церкви соответственно этому приурочены к папе. Определяемая как «общество верующих», Церковь едина только тогда, когда во главе ее стоит единый монарх-папа. Ватиканский собор так и определил: «...Пастыри и миряне, все и каждый, ему (папе) подначальны по долгу иерархической подчиненности и прямого повиновения... и... таким образом, соблюдая единство общения и исповедания тождественной с Римским Первосвященником веры, Церковь Христова образует единую паству, под единым верховным Пастырем». [28] Нельзя не обратить внимания на то, что исповедание веры ставится в связь не с Церковью, а с римским первосвященником. Выходит, что единство Церкви, по учению Ватикана, есть единство «подначальных» со своим управителем, единство «подчиненности и прямого повиновения» их папе и слепого следования за ним в вере. Такое единство — чисто внешнее единство, единство управления, с одной стороны, и «прямого повиновения», с другой. Ясно, что это единство не таково, о котором молился Христос. Характерно, что Ватиканский собор, говоря об источнике власти папы, и терминологию употребляет административного порядка, например: «по Божественному распоряжению». Другого единства, как административного, не может быть там, где Церковь определяется, как «общество верующих».
Второе свойство Церкви — святость. Никакое общество верующих нельзя назвать носителем, а тем более — источником святости. Источник ее — один, это — Богочеловек и созданная Им Церковь. Цель образования данного общества верующих — получение именно святости. Значит, источник святости должен быть выше данного общества, во имя чего последнее и образовалось. Из этого затруднения Ватикан думает выйти провозглашением догмата о непогрешимости папы. В определении Ватиканского собора читаем: «...он (папа) вполне обладает, в силу обещанной ему в лице блаженного Петра Божией помощи, тою непогрешимостью, коею Божественный Искупитель хотел, чтобы была облечена его Церковь». [29] И второе свойство Церкви, по учению Ватикана, сосредоточено в личности папы.
Третье свойство Церкви — соборность, или кафоличность, Римская Церковь понимает «в географическом значении». Она «считает себя католической (кафолической) потому, что она распространяется на весь мир, между всеми народами. Этот географический момент Римская Церковь считает наиважнейшим доказательством того, что она есть единая истинная Христова Церковь». [30] Так говорит знаток католицизма протопресвитер Г. Костельник. В другом месте об этом свойстве Церкви он же говорит: «Географический момент, лежащий в основе кафоличности Римской Церкви, подкрепляется догматическими с ее стороны доводами, именно — Римской Церкви, согласно заветам Христа, подчинен весь мир, все народы»; при этом она «ссылается на слова Христа: «И будет едино стадо и един пастырь» (Ио. 10, 16). По мнению Римской Церкви, под «стадом» нужно понимать именно Римскую Церковь, а под «пастырем» — Римского папу. [31]
Если носителем первых трех свойств Церкви является папа, то тем более это нужно сказать и о четвертом свойстве — апостольстве.
Из сказанного о свойствах Церкви следует, что без папы нет Церкви, как нет Церкви без ее существенных свойств. «Когда мы говорим о Церкви, то разумеем папу», — по словам одного римско-католического богослова. По словам другого, «Церковь есть невольница папы», — а по словам третьего, вопрос о римском примате предоставляет собою «предмет величайшей важности в христианской религии». [32] Без папы, по мнению римских богословов, Церковь совершенно немыслима, как, например, «Прусское королевство без прусского короля». [33] Подобно тому, как король Людовик XIV говорил о себе: «Государство — это я», — так и римский папа может сказать: «Церковь — это я». Таким образом, папское верховенство — главный догмат, на котором утверждается все здание Римской Церкви или, точнее, Ватикана.
Вопросом о главенстве римского папы занимались целых три собора Римской Церкви: Лионский (1274), Флорентийский (1439) и Ватиканский (1870), и на протяжении целых шести столетий. Одно уже это громко говорит об исключительной важности данного вопроса для Римской Церкви.
Обратимся к постановлениям этих соборов, касающимся главенства папы, и посмотрим, как учит об этом краеугольном камне своей веры Ватикан.
Вот постановление Лионского собора: «Сама (же) св. Римская Церковь обладает верховным и полным первенством над всею без исключения Вселенскою Церковью и по справедливости со смирением исповедует, что получила оное с полнотою власти от Самого Господа в лице блаженного Петра, начальника и главы Апостолов, преемник коего есть Римский Первосвященник. И так как Церковь сия паче прочих обязана защищать истину веры, точно так же, когда возникают вопросы, до веры касающиеся, они должны быть определены по ее суждению». [34]
В этом постановлении нет еще ни слова о преимуществах преемников Петра. Эти преимущества здесь только подразумеваются. Подразумеваемое здесь — было высказано на Флорентийском соборе: «Мы определяем, что Апостольский Первопрестол и сам Римский Первосвященник обладают первенством во вселенстве; что Римский Первосвященник есть преемник св. Петра, главы Апостолов; что он Наместник Христа, глава всей Церкви, отец и учитель всех христиан, и что ему дана Господом нашим Иисусом Христом полная власть править и управлять вселенскою Церковью, как указано в постановлениях вселенских соборов и во св. канонах». [35].
Наконец, третье определение о главенстве папы сделал Ватиканский собор в 1870 г. Собственно он провозгласил два догмата: «догмат о непосредственности и вселенстве верховной власти Первосвященника над каждым христианином, каждым священнодействователем, каждым Епископом без исключения»; второй догмат — «о непогрешимом учительстве Римского. Первосвященника». — «Постановив, что первенство управления над всею Церковью прямо и непосредственно сообщено самим Господом Иисусом Христом блаженному Апостолу Петру и что первенство это, учрежденное для постоянной пользы Церкви, должно по необходимости быть вовеки непреходимо, св. Собор рассматривает существо и характер этой верховной власти. Он, во-первых, возобновляет определение Флорентийского Вселенского Собора, в силу которого: «Все во Христе правоверные обязаны верить, что Римский Первосвященник обладает первенством по всей вселенной...» Затем он точнее выясняет это определение: «Мы учим и объявляем, что по Божественному распоряжению верховность сия Римской Церкви есть верховность ординарной власти над всеми прочими Церквами и что сия, Римского Первосвященника власть управления есть власть чисто Епископская и непосредственная; что пастыри и миряне, все и каждый, в каком бы обряде или сане они ни состояли, ему подначальны, по долгу иерархической подчиненности и прямого повиновения, не только в предметах, до веры или нравов касающихся, но даже и в тех, кои относятся к управлению и благочинию Вселенской Церкви; и что, таким образом, соблюдая единство общения и исповедания тождественной с Римским Первосвященником веры, Церковь Христова образует единую паству под единым верховным Пастырем. Таково учение Кафолической истины, от коей никто без утраты веры и спасения отклониться не может.»
Далее собор, указывая на признанную всею Вселенскою Церковью верховную духовную власть Первосвященника, выводит из нее непогрешимость, как неизбежное последствие, и продолжает: «Римский Первопрестол всегда верил, постоянный обычай Церкви всегда доказывал, Вселенские Соборы, — в особенности же те, в коих Восток соединялся с Западом в единстве веры и любви, — сами исповедывали, что Верховная власть учительства включена в Апостольском Первенстве над Вселенскою Церковью, коим обладает Римский Первосвященник, в качестве преемника Петра, Главы Апостолов.»
«Затем св. Собор, приведя все свидетельства, непогрешимо доказывающие эту истину, присовокупляет: «Сия непогрешимой веры и истины харизма (дар) Богом дарована Петру и его преемникам в сей кафедре, дабы они могли исполнить верховную свою должность для спасения всех, дабы вся Христова паства, отведенная ими от тлетворных пастбищ неправды и заблуждений, питалась небесным учением; дабы отстранена была всякая причина раскола; дабы Церковь всецело была сохранена в единстве и, утвержденная на основании своем, могла неколебимо одолеть врата ада. Но так как ныне, более чем когда-либо, человек нуждается в благотворной силе апостольской должности, и столь многие прилагают старание унизить ее власть, Мы признаем необходимо нужным торжественно провозгласить преимущество, которое Единородному Сыну Божию угодно было присвоить Верховно-Пастырскому званию. Потому, строго придерживаясь предания, восходящего до самого начала Христианской веры, во славу Господа Спаса нашего, для вознесения Вселенской Церкви и спасения христианских языков, — Мы учим и определяем: Следует признать догматом из Божественного Откровения, что: Когда Римский Первосвященник кафедрально (ex cathedra) изрекает, т. е. когда в отправлении должности Пастыря и Учителя всех христиан, и по Верховной своей Апостольской власти он определяет о учении, до веры или нравов касающемся, — что Вселенская Церковь обязана верить в оное, — то он вполне обладает, в силу обещанной ему в лице блаженного Петра Божией помощи, тою непогрешимостью, коею Божественный Искупитель хотел, чтобы была облечена Его Церковь, когда она определяет о учении, к вере или нравам относящемся; и что, следовательно, таковы определения Римского Первосвященника суть вполне неотменимы уже по себе, а не вследствие согласия Церкви. Если же кто-либо дерзнет сему определению нашему противоречить, о чем да сохранит Господь, да будет анафема». [36]
К этим определениям трех соборов Ватикана мы присоединим еще один документ о главенстве папы — из «Катихизиса Тридентского собора». Тридентским собором (1545—1564) было поручено папе составить катихизис, как выражение Тридентского исповедания веры, огражденное, при этом, от всякого прибавления или исключения соборной анафемой. Таким образом, этот катихизис вполне имеет соборное значение. Вот что говорится в катихизисе по интересующему нас вопросу: «Церковь имеет единого вождя и правителя (unus ejus rector et gubernator); он невидим и он есть Иисус, поставленный превечным Отцом Главою всей Церкви, которая есть Его тело, но есть и видимая Глава, и он законный преемник Петра, Князя Апостолов, на Римском престоле... Если возразят, что Церковь, довольствуясь единым Главою... Иисусом Христом, не нуждается ни в ком другом, то ответ нетруден: точно так, как Спаситель наш Иисус Христос поставил людей внешними совершителями таинств, несмотря на то, что Им Самим они производятся и действуют внутри человека (intimum praebitorem).., так точно Он поставил человека над Своею Церковью, которой Он Сам управляет Своим внутренним Духом, дабы быть ему наместником и исполнителем Его власти (Suae potestatis viсarium et ministrum). Видимая Церковь требует видимого главу, и вот почему Спаситель наш поставил Петра пастырем и главою верующих всего света». [37]
Путем анализа ватиканского определения Церкви, как «общества верующих», мы пришли к тому выводу, что это общество требует объединяющего начала, тем более, что первое существенное свойство Церкви — единство. Приведенные нами соборные документы как раз и служат ярким подтверждением нашего анализа. Такого рода постановления только и можно сделать, исходя из определения Церкви, как «общества верующих». За это говорит и терминология соборных определений, приложимая более к жизни какого-либо государственного учреждения Запада или Америки, чем к жизни Христовой Церкви, и самый предмет соборных рассуждений — полнота власти, власти и власти, о которой Ватикан твердил на протяжении целых шести столетий, от Лионского собора до Ватиканского, и продолжает твердить, конечно, доселе. При чтении соборных определений Ватикана невольно возникает мысль: неужели Христос воплотился для того только, чтобы оставить Себе наместника на земле, а Сам остался для нас невидим, нереален и теперь управляет Церковью — в сущности зримый, осязаемый?!? И, конечно, нельзя при этом не чувствовать колебания основ христианства, основ екклизиологии.
Разбор приведенных документов мы сделаем в дальнейшем, а сейчас подведем краткий итог этих документов словами протопресвитера Г. Костельника.
«Свою избранность и свою власть Римская Церковь ведет от самого Иисуса Христа через ап. Петра: Иисус Христос поставил ап. Петра непогрешимым монархом в Своей Церкви, таким божественным главою Церкви, каким является Сам Христос;... Его божественный примат перешел к римским епископам. Римская Церковь, таким образом, есть мать и наставница всех церквей». Исходя из этого, «Ватиканский собор 1870 г. определил догму, что непогрешимым является сам римский папа, когда говорит «ех cathedra» об истинах веры и обычаев. Значит, Римской Церкви передает непогрешимость папа, он ее непогрешимо ведет по истинному евангельскому пути. Римский папа — будто тот «камень, на котором Христос основал Свою Церковь». [38]
Еще короче суть всех соборных определений выражает булла «Unam Sanctam» папы Бонифация VIII в 1302 г., установившая «догмат, что для спасения является абсолютно необходимой вера в то, что каждое человеческое существо принадлежит юрисдикции римского архиерея». [39]
Таков ответ Ватикана на вопрос о существе Церкви.
Теперь посмотрим, какой ответ дает на этот вопрос Православная Церковь.
Восточная Православная Церковь неизменно держится того определения Церкви, какое дал в своих посланиях величайший из Апостолов — Ап. Павел. В послании к Ефесянам он так определяет существо Церкви: «И Того (Христа) даде (Бог) Главу выше всех Церкви, яже есть Тело Его, исполнение Исполняющего всяческая во всех», т. е. в переводе на русский язык: «И поставил Его выше всего, Главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем» (Ефес. I, 22—23). Короче говоря, Церковь — по Апостолу — есть Тело Христово, полнота Христова. Как понимать это определение Церкви? Его можно понимать двояко: или в собственном смысле, или в переносном, т. е. в смысле сравнения, уподобления. Последнее понимание решительно устраняется, во-первых, контекстом данного места с предыдущими словами Апостола и, во-вторых, самим его определением Церкви, если взять его в греческом подлиннике.
Возьмем контекст. Выше Апостол говорит о Христе, что Отец славы воскресил Его из мертвых, посадил «одесную Себе» на небесах, все покорил под ноги Его. Св. Иоанн Златоуст на это замечает: «Все это (говорит Апостол) о Воскресшем из мертвых... а никак не о Боге Слове.., о Том, Кто от нас... Сущего от земли... возвел на высоту» [40]: Если выражения: воскресил, посадил, покорил, с сопутствующими им словами, нужно понимать в собственном смысле, то и следующие слова: «поставил Его выше всего, Главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все вО всем», тоже следует принимать не в иносказательном смысле, не в смысле метафоры или сравнения, а в собственном смысле.
Всякое иное понимание этого определения Церкви, кроме собственного, решительно устраняет сам Апостол.
Обратимся к греческому тексту. Как правило, в греческом языке существительное-сказуемое употребляется без члена. Но, вопреки этому, Апостол в данном месте существительное-сказуемое σῶμα (тело) употребил с членом... τὀ σῶμα ... Для чего здесь член перед существительным-сказуемым? Несомненно для того, чтобы показать, что здесь речь идет не вообще о теле, не о сравнении Церкви с телом, а о теле определенном, о теле в собственном смысле, т. е. о Теле Христовом. В русском переводе это и отмечено: сказуемое-существительное «тело» напечатано с большой буквы.
Употребление Апостолом существительного-сказуемого с членом, как увидим далее, есть и в других местах его посланий; встречается оно и в Евангелиях, например, в словах Христа ученикам: «Приимите, ядите: сие есть Тело (τὀ σῶμα) Мое; «сия... есть Кровь (τὀ αῖμα) Моя» (Мф. 26, 26 и 28). В приведенных местах греческого текста существительные-сказуемые поставлены с определенным членом для того, чтобы отметить, подчеркнуть, что здесь речь идет не вообще о теле и крови, а об определенном теле и крови, т. е. о Теле и Крови Христовых. Так и в разбираемом нами месте Апостол поставил перед существительным-сказуемым (тело) член, чтобы обратить внимание верующих на это определение Церкви, как на существенное, и тем самым устранить всякое иносказательное понимание этого определения Церкви.
В других местах своих посланий тот же Апостол перед тем же существительным-сказуемым не ставит члена, когда, например, говорит: «Мы многие составляем одно тело во Христе (Римл. 12, 5; 1 Кор. 10, 17); и еще: «Вы же есте тело Христово и уди от части», т. е. а порознь — члены (1 Кор. 12, 27). В этих местах существительное-сказуемое σῶμα Апостол употребил без члена. И понятно, почему... Ведь, «мы, многие» (или коринфяне, к которым были обращены последние слова Апостола), являемся лишь членами кафолической Церкви; мы, верующие той или другой поместной Церкви, не составляем и не можем составлять всю Церковь. Очень хорошо объясняет это место св. Иоанн Златоуст: «Он (Апостол) сказал; тело, а так как все тело составляла не коринфская Церковь, но вселенская, то и присовокупил: от части, т. е. ваша Церковь есть часть Церкви вселенской, тела, составляемого всеми Церквами, так что вы обязаны быть в мире не только друг с другом, но и со всею вселенскою Церковью, если вы в самом деле члены целого тела». [41] Вот почему в указанных местах существительное-сказуемое σῶμα употреблено Апостолом без члена.
Для более точного и полного уяснения апостольского определения Церкви (Ефес. 1, 22—23), как Тела Христова, необходимо сопоставить его со словами другого его послания, а именно: «Ныне радуюсь, — говорит Апостол, — в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь (Кол. 1, 24). Там (Ефес. 1, 22—23) при подлежащем «Церковь» сказуемое-существительное «тело» поставлено с членом, а здесь, наоборот, при подлежащем «тело» сказуемое-существительное «Церковь» поставлено с членом. Отсюда — Тело Христово и Церковь взаимно заменимы. Нельзя мыслить Христа без Церкви и Церковь без Христа. Вот почему св. Игнатий Богоносец и говорит, что, «где Иисус Христос, там и Кафолическая Церковь». [42] Вот почему и св. Иоанн Златоуст вслед за Апостолом утверждает: «Как тело и голова составляют одного человека, так и Церковь и Христос, говорит (Апостол), одно суть, потому и именует, вместо Церкви, Христа (1 Кор. 12, 12), разумея здесь Тело Его». [43]
Церковь, как Тело Христово, как единый Богочеловеческий организм, естественно, имеет своею Главою, Главою в собственном смысле, только Христа. Всякое другое понимание главенства Христа в Церкви, кроме как в собственном смысле, устраняет и Апостол, когда говорит: «Он (Христос) есть Глава тела Церкви» (Кол. 1, 18). Здесь Апостол существительное-сказуемое поставил с определенным членом, тем самым исключив всякое другое, кроме собственного, понимание этого вопроса. Так понимает значение Христа, как Главы Церкви, и св. Иоанн Златоуст, когда, изъясняя слова Апостола, — Бог «поставил Его... Главою Церкви» (Ефес. 1, 22), — говорит: «Чтобы ты, услышав слово «глава», не принял его в значении только власти, но в смысле собственном, не счел Его только Начальником, но видел в Нем как бы телесную (действительную) главу, (Апостол) прибавляет: «полнота Наполняющего все во всем» (Ефес. 1, 23). Он считает как бы недостаточным (название главы для того), чтобы показать родство и близость (Церкви ко Христу), и что говорит? Церковь есть «исполнение» Христа точно так же, как голову дополняет тело, и тело дополняется главою... Видишь, как (Апостол) представляет, что (для Христа, как Главы) нужны все вообще члены, потому что, если бы многие из нас не были — один — рукой, другой — ногой, третий — иным каким-либо членом, то Его тело было бы неполно. Итак, тело Его составляется из всех (членов). И значит: тогда только исполнится глава, тогда только устроится совершенное тело, когда мы все будем соединены и скреплены самым прочным образом» [44].
Итак, по Апостолу, Церковь есть Тело Христово, полнота Христова, имеющая своею единою Главою Христа. Из этого определения Церкви, естественно, вытекают и ее существенные свойства: единство, святость, соборность и апостольство.
Церковь — едина, потому что едино Тело Христово. «Никто, никогда не приписывал Христу многих тел» [45].
Церковь — свята, потому что Тело Христово свято. Бог соделался человеком кроме греха. Человеческое естество Иисуса Христа неслитно, нераздельно соединено с Его Божеством. Отсюда, Тело Христово — абсолютно свято. Поэтому и Церковь — свята, как Тело Христово.
Церковь — соборна, или кафолична. На этом свойстве Церкви мы остановимся несколько больше для того, чтобы уяснить точный смысл его в противоположность Ватикану, односторонне понимающему это свойство Церкви. Обратимся, прежде всего, к филологии этого слова. Слово «кафолический» — греческое, состоит из предлога «κατά» и прилагательного «ὅλος» в значении: целый, весь; καϑ'ὅλου буквально значит: поцелу. Выражением ὅλος обозначается такой предмет, части которого не представимы без целого, без того главного, которым они связуются во едино тело. Каждая часть является здесь образом целого; таковы понятия тела, космоса и т. п., но означенный термин неприложим, напр., к дому или к какому-нибудь другому строению». [46] Кроме того: Предикат «кафолическая» в рассуждении Церкви означает, по словам Климента Александрийского (Stromat. I, VII, с. 15), противоположность по отношению к еретическому рассуждению» [47]. Отсюда, уяснение термина «ересь» поможет уяснить и термин «кафолический» в отношении к Церкви.
Слово «ересь» (αἵρεισις от αἱρέω — беру, захватываю, присвояю) означает «горделивое усвоение своему личному субъективному мнению значения абсолютной, объективной истины и вытекающее отсюда стремление к самовозвышению и обособлению» [48]. Другими словами, в термине «ересь» содержится идея односторонности, сосредоточения ума и воли на одном из многих утверждений. Понятие кафоличности прямо противоположно понятию ереси. Кафоличность — нечто целостное само по себе, а ересь — провозглашение за целостное или истинное одного из многих утверждений. В понятии кафоличности существенным признаком является целостность, или единство множественности. Признаки: численность, протяженность, или всемирность в смысле географическом могут быть в нем, а могут и не быть. В Сионской горнице в третий час дня Пятидесятницы, несомненно, была кафолическая Церковь, хотя численность ее членов и ее географическое пространство были очень малы. «Кафолическая Церковь — это не вполне одно и то же, как думают некоторые, что и вселенская Церковь: καϑολικὴ ὲκκληοία и οἰκουμενικὴ ἐκκλησία, разумеется, одна и та же Христова Церковь, но предикаты «кафолическая» и «вселенская» — не синонимы. Мы отнюдь не отрицаем того, что выражение «καϑολικὁς» может означать понятие о вселенскости, но утверждаем, что не в таком смысле оно понято было славянскими первоучителями, свв. Мефодием и Кириллом. Им и на мысль не приходило определять Церковь географически или этнографически» [49].
Славянские первоучители перевели слово «καθολικὁς» словом «соборный». И это — точный его перевод; «собор выражает идею собрания не только в смысле проявленного видимого соединения многих в каком-либо месте, но и в более общем смысле всегдашней возможности такого соединения; иными словами: выражает идею единства во множестве;..» [50] «одно это слово (соборный) содержит в себе целое исповедание веры». [51]
«Апостольская Церковь в девятом веке не есть Церковь ни καθ'έκασκτὁν (по разумению каждого, как у протестантов), ни Церковь κατὰ τὸ ἐπίσκο-πον τῆς Ρώμης (по разумению римского епископа, как у латинян); она есть Церковь καθ'ὅλον (по разумению всех в их единстве)». [52]
Рассматриваемое свойство Церкви еще более ясным делают следующие замечательные слова св. Игнатия Богоносца: «Где будет епископ, там должен быть и народ (то πλῆθος), так же, как, где Иисус Христос, там и кафолическая Церковь» [53] — «В первом случае — «множество, толпа, народ» и «кафолическая Церковь», во втором — находятся между собою в строгом соответствии. Первым выражением обнимается единство верующих на определенном месте, вторым — единство всех верующих. Таким образом, где Иисус Христос, там все верующие составляют собою единство; так же и верующие поместной Церкви должны, посредством епископа, образовывать собою единство. Следовательно, св. Игнатий единство поместной Церкви основывает на единстве целой Церкви» [54]
Все наши замечания о кафоличности, как свойстве Церкви, кратко можно выразить словами св. Иоанна Златоуста: «Все составляют нечто единое, по подобию тела, и это единое слагается из многих и находится во многом, а многое в нем содержится и получает возможность быть многим».[55] Таков смысл слова καϑολικός в отношении к Церкви, и таково православное понимание третьего существенного свойства Церкви.
Из приведенных рассуждений ясно, что свойством кафоличности обладает, главным образом, тело, как носитель единства во множестве. Таким образом, и это свойство Церкви, естественно, вытекает из определения Церкви, как Тела Христова.
Наконец, четвертое свойство Церкви — апостольство. «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» (Ио. 20, 21), — вот основание апостольства! Но в чем его специфическая особенность, как свойства Церкви? Приведем суждения святых Отцов по этому вопросу. Св. Ириней Лионский говорит: «Где сохраняются дары Господа, там должно учиться истине у тех, у которых есть преемство Церкви от Апостолов». [56] Особенно замечательны его же слова, сказанные в другом месте: «Истинное знание есть учение Апостолов и древнее установление Церкви во всем мире и отличительный признак тела Христова, состоящий в преемстве епископов, которым те передали сущую повсюду Церковь». [57] Блаж. Августин пишет: «Церковь от времен самих Апостолов через известнейшее преемство епископов, продолжающееся даже до наших дней и имеющее продолжаться на все последующие времена, сохраняет и приносит жертву хвалы в таинстве Тела и Крови Христовых». [58]
Итак, отличительный признак Тела Христова состоит в преемстве епископов; через это преемство передается «сущая повсюду Церковь», с ее полнотой даров Святого Духа, полученной ею в Пятидесятницу. Как видим, и это свойство Церкви, как и предыдущие три, естественно вытекает из апостольского определения Церкви, как Тела Христова.
В Евангелии упоминается еще одно свойство Церкви — неодоленность вратами ада. Оно — выражение в отрицательной форме совокупности всех положительных свойств Церкви. Как Тело Христово, Церковь недосягаема для сил зла. Бог «возвел ее на высоту великую и посадил на том же престоле, потому что, где глава, там и тело, нет никакого перерыва между главою и телом, и если бы (связь между ними) прекратилась, то не было бы ни тела, ни головы». [59] От Церкви могут отпасть отдельные люди, отдельные общины, отдельные местные Церкви, но сама Церковь, как Тело Христово, как полнота Христова, никогда не оскудеет и всегда будет пребывать неодоленной от зла. Она, как была, так вовеки и пребудет «столпом и утверждением истины» (1 Тим. 3, 15). И св. Иоанн Златоуст, исходя именно из этого исповедания догмата Церкви, говорит: «Не удаляйся из Церкви; потому что ничего нет равного Церкви,.. ничего нет могущественнее Церкви... Она выше неба, обширнее земли. Она никогда не стареет и всегда цветет... [60] Легче погаснуть солнцу, чем уничтожиться Церкви...» [61] «Церковь есть столп вселенной». [62]
Так тверды и несокрушимы основы Христовой Церкви. Действительно, врата ада не могут одолеть ее, ибо Церковь есть Тело Христово (Ефес. I, 22—23), ибо «и Церковь и Христос одно суть» (св. Иоанн Златоуст), ибо Глава тела Церкви — Христос. Отсюда, она вовеки пребудет Единою, Святою, Соборною и Апостольскою Церковью. Так, согласно Священному Писанию, исповедовала девятый член Символа веры и теперь исповедует Восточная Православная Церковь и этим исповеданием руководствуется в своей церковной жизни и деятельности.
(Продолжение следует)
А. ВОЛКОВ
[1] Речь на пленарном заседании Совещания Глав и представителей автокефальных Православных Церквей в Москве 9 июля 1948 г. — «Деяния Совещания», т. I, стр. 94.
[2] Митрополит Филарет (Дроздов). Слова и речи, 1882, т. IV, стр. 514—515.
[3] Он же. Слова и речи, 1861, т. III, стр 350.
[4] Он же. Слова и речи, 1848, т. II, стр. 239.
[5] Он же. Слова и речи, т. III, стр. 153.
[6] Св. Василий Великий. Творения, ч. 5, стр. 359, 360. Свято-Троицкая Лавра, 1902.
[7] Св. Киприан. Творения, т. 2, стр. 221.
[8] Е. Аквилонов. «Церковь». — Научное определение Церкви и апостольское учение о ней, как о Теле Христовом, СПБ. 1894, стр. 30.
[9] А. Л. Катанский. Характеристика православия, римского католичества и протестантства, стр. 19 (см. Е. Аквилонов, цит. соч., стр. 59).
[10] Е. Аквилонов. Цитир. соч., стр. 30.
[11] Там же, стр. 31.
[12] Св. Киприан. О единстве Церкви, стр 119.
[13] Е. Аквилонов. Цитир. соч., стр. 31.
[14] A. H. Муравьев. Дополнение к письмам о богослужении Восточной кафолической Церкви, СПБ. 1900, стр. 229.
[15] А. С. Хомяков. Избранные богословские сочинения, Киев, 1912, стр. 32.
[16] «Деяния Совещания Глав и представителей автокефальных Православных Церквей» в Москве в 1948 г. М. 1949, т. I, стр. 94.
[17] Там же, стр. 234.
[18] По цитир. соч. Е. Аквилонова, стр. 118.
[19] Филарет, архиеп. Черниговский. Православное Догматическое богословие. Чернигов, 1864, ч. II, стр. 357.
[20] А. П. Лопухин. История христианской Церкви в XIX в. СПБ, 1900, 1, стр. 285.
[21] Е. Аквилонов. Цитир. соч., стр. 72—73.
[22] Там же, стр. 79.
[23] Там же, стр. 79.
[24] Там же, стр. 33.
[25] Там же, стр. 84.
[26] Там же, стр. 106.
[27] Там же, стр. 107.
[28] «Исхождение Святого Духа и вселенское первосвященство», Изд. С. Асташкова. Фрейбург в Бризгаве, 1886, стр. 115.
[29] Там же, стр. 118.
[30] Г. Костельник. См. Деяния Совещания Глав и представителей Православных Церквей в Москве в июле 1948 г., стр. 159.
[31] Там же, стр. 160.
[32] См. у Е. Аквилонова, цитир. соч., стр. 135.
[33] См. цитир. изд. С. Асташкова, стр. 78.
[34] Там же, стр. 109.
[35] Там же, стр. 111.
[36] Там же, стр. 114—116, 118.
[37] Из книги «Римский папа и папы Православной восточной Церкви». Фрейбург в Бризгаве, 1899, стр. 86—87.
[38] «Деяния Совещания Глав и представителей автокефальных Православных Церквей» в Москве в июле 1948 г., т. I, стр. 160.
[39] Там же, у протопресвитера Г. Костельника, стр. 141.
[40] Св. Иоанн Златоуст. Творения, XI, стр. 25.
[41] Св. Иоанн Златоуст. Творения, X, стр. 315.
[42] Св. Игнатий Бононосец. Послание к Смирнянам, 8.
[43] Св. Иоанн Златоуст. Творения, X, стр. 297
[44] Он же, XI, стр. 26—27.
[45] «Митрополит Филарет (Дроздов). Слова и речи, 1848, II, стр. 97.
[46] Проф. Е. Аквилонов. О соборности Церкви в связи с вопросом о восстановлении патриаршества. СПБ, 1905, стр. 6.
[47] Там же.
[48] Православная богословская энциклопедия. СПБ, 1904, т. V, стр. 489.
[49] Проф. Е. Аквилонов. О соборности Церкви в связи с вопросом о вос¬становлении патриаршества. СПБ, 1905, стр. 7.
[50] А. С. Хомяков. Цитир. соч., стр. 188.
[51] Там же.
[52] Там же, стр. 189.
[53] Св. Игнатиий Богоносец. Послание к Смирнянам, 8.
[54] Проф. Е. Аквилонов. Цитир. соч., стр. 7.
[55] Св. Иоанн Златоуст. Творения, X, стр. 315.
[56] Св. Ириней Лионский. Против ересей, IV, 26, 5.
[57] Там же, IV, 33, 8.
[58] См. Митрополит Макарий. Православное догматическое богословие. СПБ. 1883, II, 246.
[59] Св. Иоанн Златоуст. Творения, XI, 26.
[60] Он же, III, стр. 400 и 415.
[61] Он же, VI, стр. 407.
[62] Он же, XI, стр. 692.