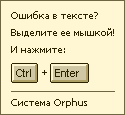МОЙ ПУТЬ НА РОДИНУ
В августе 1948 года я был арестован на дому арабской полицией я препровожден в арабскую крепость Ком Эль Дик (в Александрии). Арестован я был обманным путем, т. к. мне было заявлено, что я еду в гувернарат для делового свидания с представителем Министерства внутренних дел полк. Эйзад-беем. На самом же деле меня отвезла в крепость и передали начальнику тюрьмы.
Попав в тюрьму, я тотчас опротестовал арест, ссылаясь на то, что никакого ордера на арест мне, иностранцу, предъявлено не было; к тому же я был болен, и все лекарства и необходимые вещи (белье, мыло и т. п. принадлежности обихода) остались дома; поэтому я потребовал, чтобы о всем этом дали знать в наше Посольство и чтобы вызвали ко мне русского врача, а также доставили мне лекарства и белье, согласно правилам Международного Красного Креста.
Но ничего из этих юридически обоснованных требований исполнено не было, и я — больной — остался в тюрьме на произвол судьбы. Тогда мне еще не было известно, что в результате войны Египта с Палестиной в стране вышел военный закон, по которому власти могли арестовать кого угодно без объяснения причин.
Сперва меня поместили в общей камере с уголовными преступниками (убийцами, крупными торговцами гашиша, дельцами черной биржи). Я был в жару, бредил и благодаря этому слабо реагировал на все явления. Помню только, что мне всегда хотелось пить, но вода, разлитая по оловянным кружкам, была теплой и обладала неприятным вкусом, так что пить ее было невозможно, разве только ополаскивать рот.
Почти полтора месяца я не мог добиться ни врача, ни лекарства, хотя очень ослабел и галлюцинировал, так как осложнения от невылеченного гриппа перешли на мозг. Пульс все время был 110—120 (вместо нормальных для меня 70). И только на сороковой день ко мне прибыл врач по нервным болезням Николаи (грек), вызванный тюремной администрацией, которая, наконец-то, встревожилась моим состоянием. Боясь ответственности за свое небрежение, она разрешила и нашему церковному старосте привезти мне кое-что из вещей и запоздавшие лекарства. Свидание со старостой было кстати, т. к. я очень тревожился за свою паству, столь неожиданно лишенную своего пастыря.
На десятый день после ареста я был переведен в одиночную камеру, где и пробыл до 11 мая 1949 г. Моя камера представляла собой каменный продолговатый мешок (5 шагов длиной и 3 шага в ширину); высоко вверху были два очень узких окна — в решетке и в частой проволоке; стекол не было, так что зимой холодный ветер с моря свободно гулял по камере. На этом небольшом пространстве помещались койка, столик, табурет, а. с 7 час. вечера до 5 час. утра — большая параша.
В течение суток отводилось 5 часов на приведение себя и камеры « порядок, на питание и прогулку по корридору, а 19 часов приходилось быть взаперти. В двери был глазок для наблюдения за арестованным. Железная дверь запиралась железными болтами и тяжелым висячим замком. Охраняли нас 20 вооруженных винтовками солдат и три констэбля. Пища была негигиенична, недоброкачественна и довольно часто недоварена (твердый рис, твердая фасоль). В тюрьме кухни не было, поэтому пищу приносили со стороны, на досках, в неприкрытом виде, так что мухи черным слоем покрывали еду. Обеденные столы смахивались той же метлой, которой подметали помещение и уборную. Наши протесты нисколько не действовали на администрацию. Так как продукты (масло, крупа) были очень низкого качества, а мясо довольно часто с душком, то многие болели желудком. Я не менее 10 раз болел резью в желудке и кровавым расстройством. Ножей и вилок, конечно, не было и в помине (не разрешены), так что мясо все брали руками и буквально рвали его зубами. Раздавалось мясо также руками, так что многие не могли его есть из чувства брезгливости.
Мне запрещены были книги и газеты, а также бумага, карандаш, перочинный нож. Вообще запрещено было все то, что хоть сколько-нибудь напоминало бытие культурного человека.
Посещения были сведены к минимуму. Каждый визит продолжался 20 минут, так что за целый год на визиты ко мне пришлось всего
3 часа с минутами. Каждый визит был обставлен весьма внушительно: нас окружали, полковник Эйзад-бей или его секретарь Абд-Эль-Кадер, начальник тюрьмы, дежурный констэбль и полицейский переводчик; последний сидел рядом с нами и записывал в тетрадь каждое наше слово, несмотря на то, что посетителями моими были официальные лица — старший секретарь Посольства, консул и секретарь Патриархии. Сотрудники нашего Посольства могли бы посещать меня чаще, но они не получали пропуска в крепость. Впоследствии, приспособившись к обстановке, я ухитрялся доставать бумагу и карандаши, составлял свои тюремные заметки, писал письма и даже труд («Евангельская Симфония») по полученной впоследствии Библии. Писал я лежа на полу под дверью, чтобы не видно было через глазок, в те минуты, когда после обеда и после ужина все надсмотрщики по восточной привычке задремывали на час. Конечно, в столь короткие сроки ничего серьезного нельзя было осуществить. Свои писания я не без труда и риска ухитрялся отправлять «на волю». Не сноситься «с волей» я просто был не в силах, т. к. не знал, сколько времени меня продержат в тюрьме, и очень боялся, как бы «карловчане», пользуясь моим отсутствием, не наложили руку на нашу церковь.
Его Блаженство Александрийский Патриарх Христофор всячески стремился вырвать меня из когтей полиции, писал ныне убитому председателю Совета Министров Накраши-Паше (2 раза), великому муфтию и даже самому королю, но не смог помочь мне, т. к. военный закон осуществлялся в стране со всею строгостью.
Сперва Блаженнейший Владыка откомандировывал в нашу церковь для служения своих священников, но затем отказал, так как в Египте священнослужителей недостаточно. До сих пор нет собственной семинарии и академии: таковые существуют только в Афинах и на островах Халки. Но поездки туда теперь сопряжены с большими трудностями.
Его Блаженство Папа-Патриарх просил Александрийского губернатора разрешить мне поселиться в Патриархии, на что и последовало разрешение. Полковник Эйзад-бей заехал за мной, был чрезвычайно ко мне любезен и сам отвез меня в Патриархию, где я был принят с распростертыми объятиями; мне показали даже покои, отведенные для меня; был оставлен обед, т. к. в Патриархии знали, что я прибуду в тот день. Но Эйзад-бей заявил мне, что должны быть проделаны еще некоторые формальности, а пока всего одну ночь я должен провести в крепости. И опять я был водворен в свою камеру. А утром мне сообщили, что Накраши-паша (премьер-министр) аннулировал разрешение губернатора, и я опять стал узником.
Мое пребывание в крепости, к сожалению, не обошлось без издевательств со стороны констэблей. Да и весь уклад тюремной жизни в сущности, был сплошным издевательством, т. к. все мы были на положении опасных арестантов, что и ощущалось на каждом шагу. Одни обыски чего стоили. Однажды во время обыска меня повалили на койку, и я сильно ударился головой о стену, результатом чего явилась тяжесть и туман в голове, а также потеря памяти, которая, к счастью, постепенно возвращается ко мне. Чаще всего, ради грубейшего издевательства, приносили и показывали мне скабрезные рисунки, заставляя смотреть на них... Позволяли себе большие вольности: дергали за бороду и волосы, подхватывали под руку и буквально протаскивали быстрым шагом по коридору. Допускалось и многое другое, о чем писать не могу. Однако жаловаться было нельзя, так как вся корпорация констэблей вооружилась бы против жалобщика и из его жизни — и без того трудной — создала бы ад. Весьма одолевало требование: подарков со стороны низших служащих (уголовных арестантов, приставленных к уборке тюремных помещений, кроме камер) и аскеров Поневоле приходилось делиться с ними своим скудным пайком. Когда «с воли» приносили передачу, т. е. продуктовую посылку (что бывало раз в полтора месяца), то добрую половину ее приходилось раздавать служащим.
Особенно тяжело бывало по большим праздникам и особенно на Рождество Христово и на Пасху. В эти дни я мысленно переносился в Москву и именно в Богоявленский собор, где моему воображению представлялись торжественные богослужения, возглавленные Святейшим Патриархом. Переносился я и в свою маленькую Александрийскую церковь, где, как бы перед собой, видел всех своих пасомых. И эти видения несколько утешали меня. В канун Воздвижения Честнаго Животворящего Креста Господня я попросил из тюремного сейфа свой крест — дар Святейшего Патриарха, попросил также одного из солдат принести мне немного цветов. Из этих неродных цветиков я оплел венок и положил его на возглавницу койки. И в 8-м часу вечера, в своем одиночестве, поднял крест над головой и, тихо воспевая «Кресту Твоему» и обливаясь слезами, я положил его на возглавницу и принес ему поклонение.
На Пасху мне некого было поздравить, не с кем похристосоваться... Огромную роль в обвинении меня сыграла реакционная группа нашей русской колонии — все сплошь «карловчане». Начальник ее — полковник Скарятин — одновременно является чиновником Египетского Министерства внутренних дел и докладчиком по русским делам. Многие русские реакционеры-карловчане служат в египетской полиции тайными и явными агентами. Это они, по указке всесильного Скарятина, пишут ему на нас клеветнические доносы, по которым и составляются «весьма убедительные» доклады в Министерство внутренних дел. Только благодаря этим докладам я преследовался в течение четырех лет: под Св. Троицу (1945 г.), по распоряжению Скарятина была заколочена наша церковь железными скобами (в утро следующего дня, по просьбе Его Блаженства Папы-Патриарха Христофора, полиция открыла церковь); от того же Скарятина я получал грозные телеграммы с запрещением не только созыва общего собрания прихожан, но и созыва церковного совета; по его же настоянию я был подвергнут суду за воссоединение Александрийского прихода с Матерью-Церковью, но был оправдан. Благодаря ему же мое досье стало «черным», и я часто вызывался в Александрийский гувернарат, в комендатуру и /в Министерство внутренних дел, был окружен тайными агентами, получал угрожающие письма и нередко подвергался оскорблениям на улице. Все это мракобесие «карловчан» было бы непереносимо, если бы меня не поддерживали мои самоотверженные прихожане! «Карловчане» пытались всячески отравить мне жизнь и запугать, чтобы я, в конце концов, махнул на все рукой и уехал. Но они не успели в своем неприглядном деле.
В конце концов я все-таки был арестован и отвезен в крепость; были арестованы и мои помощники — члены церковного совета и помещены в Абукирском концентрационном лагере. Должен отметить, что «карловацкая» группа в Египте в нынешнее время особенно сильна. Являясь сотрудницей по борьбе с коммунизмом, она обвиняла меня ни более, «и менее, как в создании коммунистического движения в стране... Вот почему я слыл за опасного преступника, вот почему был ввергнут в крепость. Не будь «карловацких» клеветнических доносов, египетским властям и в голову не пришло бы обвинять меня и моих сотрудников «в создании коммунистического движения в стране», так как все мы были очень далеки от политики.
11 мая утром вдруг явился в тюрьму вооруженный наряд полиции и солдат с винтовками; оказывается — за мной. Не дав мне возможности побывать в церкви и у себя дома, чтобы передать дела заместителю и захватить с собой хотя бы документы я особенно ценные рукописи, а также самые необходимые дорожные вещи, меня отправили на вокзал, посадили в отдельное купе поезда и повезли в Порт-Саид. В коридоре вагона разместились солдаты с винтовками, а по бокам и опереди уселись агенты секретной и внешней политики (купе на 8 пассажиров). В Порт-Саиде я преодолел весьма изнурительные четыре инстанции и, наконец, был доставлен в тюрьму и заперт в одиночную камеру. Оказывается и здесь тюрьма была переполнена политическими узниками. Когда узнали о моем прибытии, тотчас по всем камерам раздалось пение русского гимна (текст французский). Но в 10 час. вечера, тоже под охраной, меня повезли в порт, где мои вещи, которые были при мне в тюрьме, были подвергнуты последнему осмотру, причем были изъяты Библия и мой рукописный труд «Евангельская Симфония».
На баркасе уже ждали меня египетский чиновник высокого ранга и его окружение. Отправились мы на внешний рейд, где я увидел огромный белый теплоход с названием «Вильнюс». На теплоходе меня встретили очень тепло, и ночью же я принял первую за год ванну, так как в тюрьме не было ни бани, ни взнны, ни таза, ни теплой воды. 15 мая я благополучно прибыл в Одессу (теплоход нигде не останавливался), где я был встречен делегацией из нескольких лиц. Их теплую встречу на родной земле я никогда не забуду.
Конечно, сейчас я еще далеко не тот, каким был до ареста, но уверен, что постепенно приду в себя и послужу еще Матери-Церкви и Матери-Родине своим сыновним служением. Мне и теперь уже значительно лучше. Нет такой цены, которая была бы достаточной за правоо обрести Родину после столь длительной разлуки с нею.
Слава Богу за все!
Архимандрит Алексий (Дехтерев), бывший настоятель Русской церкви в Александрии (Египет)