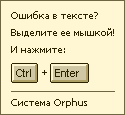ДЕНЬ У ДРУГА
В годы раннего детства одной из любимейших игрушек наших была разборная модель Троице-Сергиевой Лавры. Ее делали прославленные кустари Сергиева посада и она расходилась по всей России. И все равно, — была ли это дорогая, сверкающая лазурью, золотом и белым лаком, в тонкой резьбе, с цветной фольгой окон, занимающая целый стол, точная копия монастыря, или просто коробка деревянных лакированных чурок, еле тронутых торопливым долотом мастера, — все равно восхищала нас она своими стенами и башнями, трапезной, часовнями, церквами, соборами и высокой, сверкавшей золотым венцом, колокольней. Все это сложное сооружение надо было расставить строго по плану... Почти полстолетия прошло с тех безмятежных дней, и вот довелось мне счастливыми и благодарными глазами увидеть то несказанное великолепие, слабый образ которого волновал когда-то неискушенное мое сердце.
В чудесный день ранней осени я сел в комфортабельный вагон электрического поезда, идущего с Ярославского вокзала Москвы. Мимо зеркальных окон побежали сады, березовые и сосновые рощи, санатории, дачные домики с мезонинами, балконами, верандами, башенками и фонариками, — резные, нарядные, напоминающие старинные часы-кукушку. Проехали Лосиный остров, Мытищи, Хотьково, откуда шестьсот лет назад молодой инок, сын знатной семьи, ушел в «пустыню», — на вершину дикой горы Маковец, и там в лесной девственной чаще положил начало скиту, прославившему потом на века это пустынное место... Поезд бежал дальше, вдоль перелесков, уже сменявших зеленый убор на багряные наряды осени, мимо сжатых полей, холмов, овражков. Какое все в этих подмосковных местах срединно-русское, вековое, спокойное, исконное — завязь и сердце страны! Именно отсюда, уже по-настоящему, прочно и навсегда «пошла есть» русская земля, здесь укреплялось начальное дыхание необъятно-огромной державы, примирившей олений мох и льды Арктики с субтропической пальмой. На всем лежит здесь отблеск этой начальной России,— на белостволых березах, зеркальных речках, прозрачнейшем воздухе, синем глубоком небе, пашнях и тихих долгих закатах...
Увлеченный неповторимым нестеровским пейзажем, я не заметил, как влево, над светлой гребенкой леса, встала и ровно поплыла в небе золотая чаша под крестом лаврской колокольни,— совершенно необычная, непривычная для глаза, чем-то напоминающая об индийской пагоде, — а через несколько минут во всем сверкающем, славословящем великолепии поднялись лаврские соборы. Этот слепящий экран белых стен, эти сказочные башни, эти золотые и синие, сферические и шатровые купола, увенчанные золотыми крестами в цепях, встали сильно и неожиданно и захватили, зачаровали всех, высадившихся с поезда. Приехавшие издалека богомольцы, иностранцы-туристы, местные жители, шли молча, иные сняв головные уборы, не замечая дороги, не отводя завороженных глаз от этой непередаваемой красоты, в которой были и монолитная собранность и тяжесть горного хрусталя и такая, вместе с тем, бесплотная легкость, такая хрупкая тонкость, благородство, изящество, что мне казалось, — вот рассеется это видение, сольется со сверкающим синим небом, как едва померещившись, уходит, сливается с прозрачными водами озера потонувший град Китеж.
Я остановился в гостинице против монастыря, совсем близко от него. Было тихо, тепло. Я сидел на деревянном крылечке гостиницы, смотрел, как сверкала в уходившем солнце, плавилась в его густорозовых лучаях золотая чаша. Я не помню, кому принадлежит выражение «гениальность места», когда идет речь о гармоническом сочетании того, что создано природой и что сотворено человеком, но на вершине этого широкого холма нельзя представить себе ничего более выразительного и убедительного, более глубокого по смыслу и величаво-красивого, чем эти стремящиеся в небо соборы, с предельной ясностью выражающие все напряжение утверждающей себя, объятой высоким духовным порывом, тогдашней, начальной Руси...
В лимонно-желтые, все густевшие, переходившие в тяжелые вишневые тона был окрашен закат. Пахло боровой свежестью и осенним листом, прошли грузовики с золотыми ржаными снопами; от моста в гору к воротам Лавры быстро поднимался молодой монашек. Потом стемнело, в далеком небе загорелись звезды, и я ушел к себе, в опрятный номер гостиницы с кружевными занавесками на окнах. А среди ночи проснулся, и в памяти моей резко встали видения, приведшие меня сюда, к священным стенам прославленного монастыря.
Северное побережье Франции, прославленные курорты, нарядные коттеджи и дворцы миллионеров, автомобили лучших мировых марок, яхты, великолепные пляжи, казино, балы, карнавалы, дансинги, рестораны, блеск, изысканность, пышность, — все, что может представить себе фантазия избалованного жизнью, пресыщенного ее утехами человека «избранного общества».
А несколько в глубине материка встает одно из видений жизненной прозы, обнажается та основа, на которой покоится утонченное великолепие побережья. Непрерывно дымят в сером небе черные трубы огромного завода и по ночам зловеще-багровым пламенем ложатся на поля и холмы отблески доменных печей. Сотни полуголых людей суетятся у огня, кранов, ковшов, цепей и тысячи стоят у станков в длинных корпусах рядом. Суровой горечью, злобой и безнадежностью ложится пламя печей на человеческие лица. Тень беспощадного Молоха поднимается в гигантских клубах черного дыма над высокими трубами завода. На заводе льется сталь и делаются пушки, пулеметы, минометы, ружья. Хозяевам завода безразличны судьбы рабочих, им чужды интересы вообще всего человечества. Хозяева знают одно, — что войны несут им много денег. А хозяевам нужно много денег, чтобы иметь вот эти дворцы, автомобили мировых марок, яхты, самолеты, скаковые конюшни, чтобы снабжать деньгами парламентариев, подкупать печать, иметь ставленников в правительстве, чтобы прочно чувствовать себя господами страны.
В рабочем городке Коломбель около завода живет несколько сот иностранцев — русских. Страшна их жизнь. Им некому пожаловаться на горькую свою долю, некому заступиться за них, отстоять для них даже те ничтожные права рабочего скота, которые есть у остальных, местных людей. Они — бесподданные, отщепенцы, парии. Каторжный труд, ничтожная его оплата, ежеминутная опасность аварий, жалкий тюфяк казарменного общежития, беспросветность, безнадежность, приближение старости, потеря трудоспособности, больничная койка, сосновый гроб в общей могиле. Неделя нечеловеческой работы, а в день отдыха, — столик в досчатом бараке ресторана, бутылка водки, пьяные тяжкие слезы.
«Страшно, унизительно, позорно. Неужели же это навсегда, до конца дней? Нет, надо искать выхода», — слышны голоса в бараке.
Но нет выхода. Выход один, — уйти из жизни, удавной петлей или прыжком в расплавленный металл покончить счеты с нею.
Чужбина. Черная пустота, могильный мрак, смертная тоска в сердцах. Но где-то за ними, в сокровенной глубине все еще теплится слабый огонек надежды, сознания своей принадлежности к великому народу, к прекрасной стране, к вере отцов... И вот среди закопченых домов французского города на пустыре над обрывом встает белостенный небольшой православный храм с зеленой луковкой купола, с крестом в цепях. Он построен на трудовые гроши, вся утварь и убранство его сделаны заскорузлыми руками прихожан в часы рабочего перерыва. И по субботам и воскресеньям плывет над чужими домами робкий и радостный перезвон, будя в сердцах отчаявшихся людей робкую надежду, что может быть еще будет найдена дорога в жизнь. Настоятель нового храма — молодой иеромонах — еще мальчиком, во время первой мировой войны очутившийся на чужбине, учившийся где-то в Бельгии, потом окончивший богословский институт в Париже и принявший постриг.
Все внимательнее слушают прихожане проповеди своего молодого пастыря. Что-то звучит в них новое, неслыханное. Он не только ободряет людей в их несчастье, поддерживает уставших, отчаявшихся. Он говорит, что жизнь, окружающая их, — несправедливая, холодная, лишенная любви, жизнь, где человек угнетает человека, где люди делятся на рабов и рабовладельцев, — жизнь, далекая от христианства. И другое говорит иногда молодой пастырь, — то, от чего ложатся на лица морщины глубокого раздумья, от чего несмелый свет загорается в глазах, то, что укрепляет их давнюю догадку, родившуюся в глубинах и совести. Он говорит, что слово Правды рождается на той священной земле, на просторах которой родились и они.
Бушевала буря, грозная и очистительная. Западный Атилла огнем и мечом прошел по Европе, залил ее реками слез и крови и, упоенный легкой победой, бросился на Восток, предмет его вожделений. В те решающие дни многие из прихожан молодого монаха, в сердца которых забросил он доброе семя, без колебаний пошли за своим народом, многие нашли смерть в боях и в пыточных подвалах возрожденного средневековья. На переломе войны разрушен был завод, и в камни обращен город Коломбель, а уцелевших разметало по воле ветров.
В дни освобождения Франции от гитлеровских палачей, в Париже, в вышедшей из подполья организации русских партизан часто можно было видеть коломбельского «батюшку», игумена Павла Голышева. Исхудавший, с ввалившимися глазами, в потертой старенькой ряске, он весь горел радостью и радостью этой заражал людей. Он говорил, что победа несомненна и близка, что вот он — свет приближается с Востока, и свет разгонит тьму человеческой лжи и ненависти, в свете этом сгорят насилие, неправда, угнетение, рабство.
«Что же будет с нами, отец Павел?» — спрашивали его русские люди, четверть века томившиеся на чужбине.
«Знаю, что нет в мире страны более справедливой, более благородной, более великодушной, чем наша Родина. Верю в то, что увидит она наши горькие муки и простит нас. Верю в великое чудо встречи с ней»...
Чудо произошло.
Я просыпаюсь от солнца, ударившего в глаза. Золотистым светом полна небольшая опрятная комната. В отворенное окно плывет низкий сильный звон. «Пора вставать», — думаю я и тут же вновь погружаюсь в полусон, в нечто давнее, отходящее к истокам дней. Мне ясно чудится, что по коридору монастырской гостиницы тяжело прошлепали босые ноги, проплыл к какому-то нетерпеливому грешнику ведерный шумящий самовар, что вот-вот юный послушник с кроткими глазами тихо постучит в дверь, зашуршат крахмальные юбочки сестер, ко мне молча подойдет мать внимательно, со строгой ласковостью посмотрит мне в лицо, одернет на мне курточку, протянет руку и поведет меня к белым стенам собора в нашем далеком Болдинском монастыре, с высокой колокольни которого торжественно плывет в утреннем свежем воздухе, в золотом раннем солнце вот этот густой мощный звон, — как водила почти полстолетия назад...
Но стряхиваю сон, поднимаюсь, подхожу к окну. Все плывет, плывет, перейдя из сна в явь, мерный басовый звон и кажется, что в нем слегка качаются столбы солнечного света. Свет мешается с зеленым полумраком, — перед окном раскинулся густой клен, под ним тянутся кусты жасмина, — в утренней обильной росе, еле тронутые желтизною осени, — а между ними светится вдали белая монастырская стена, тяжело вздымается Пятницкая башня, а вправо и выше горит золотым куполом в солнечном воздухе легчайший пятиглавый собор.
Одеваюсь, выхожу на залитую солнцем улицу; к «Святым воротам» тянутся группки богомольцев. Через боковые, — Успенские, — ворота вхожу в прохладу векового камня и резко задерживаю шаги, — вот она, прямо передо мною эта несказанная красота, сердце Лавры — Успенский собор. Высокие старые липы восходят к его верхнему поясу, закомарам, орнаменту, за зеленью слепяще белеют стены, золотой широкий купол мощно возносится над четырьмя боковыми голубыми в больших золотых звездах. Голубизна куполов мягко выделяется на синем поле неба... Да нет, это не краска, это старинный рытый бархат — густой, тяжелый и седой на изгибе.
Густа толпа молящихся. Пальто и пиджаки горожан, овчинные куртки и ватники колхозников, темные платочки, береты, шляпы. В золотисто-розовом свете солнца через узкие верхние окна над бледно-желтыми мерцающими огоньками свечей плывет к просторам купола голубой кадильный дым. С органной мощью гудят басы хора.
Выхожу, брожу по аллее голубоватых лиственниц вдоль длинной стены Трапезного храма, любуюсь его разнообразно-сложной архитектурой, большими белыми раковинами барочного пояса вверху и мягкими живыми колоннами в виноградных листьях и гроздьях. Вдали, по противоположную сторону монастырских владений, ему отвечают столь же прихотливым стилем «царские чертоги», и с ними радостно перекликается пестрая, нарядная, пышная в своей сплошной лазурно-зеленой и золотой лепке, горящая новой позолотой купола, маленькая Надкладезная церковь, выстроенная на том месте, где, по преданию, Преподобный Сергий обрел источник, — узорная, пышная, русская, празднично-пряничная.
Брожу, и передо мной постепенно во всей своей изумительной гармонии открывается полный план этого единственного на земле места, этого неповторимого архитектурного ансамбля, — как бы изначально предначертанного, но осуществлявшегося постепенно, от частного к общему, — от малой деревянной церковки через века к нынешнему завершенному своему великолепию.
Обедня кончилась. Большой корпус перед Трапезной церковью, деревянные ступени старой лестницы, обитая войлоком и клеенкой дверь. Секундное волнение, стук, дверь отворяется и на пороге, в снопе солнечного света, встает узкоплечая фигура в черной рясе. То же худое лицо, те же глаза, то же выражение их, — скромности, внутренней силы и просвещенного разума. Встреча наша радостна, почти восторженна. Он все же немного растерян от неожиданности, — о. Павел, — суетится, не знает, куда посадить гостя, хлопочет у маленькой электрической плитки.
Я оглядываю чистую светлую горенку и мне немного странно, что это и есть иноческая келья. Она похожа скорее на кабинет ученого, только верхняя часть восточной стены увешана иконами, образками, старинными гравюрами изображениями Лавры и св. Сергия Радонежского. В большое окно с горы широко открывается чудесный вид на чистые домики Загорска, сады в пятнах латуни, бронзы, золота, киновари, пашни и леса за ними, — синими, все светлеющими, голубеющими гребенками идут они к далекому горизонту, к светлому краю неба. На другой стене кельи висят небольшие фотографии человека в форме инженера, миловидной молодой женщины в костюме начала века и маленького мальчика, как бы к чему то прислушивающегося, в лице которого чувствуется настороженность, почти испуг, — словно бы предчувствие своей сложной и трагической и счастливой судьбы.
На небольшом столике под чистой бахромчатой скатеркой, — кипящий чайник, вазочка с прозрачным медом, хлеб. Мы разговариваем, волнуемся, перебиваем друг друга, с головой ушли в прошлое. Мы вспоминаем Францию, Коломбель, завод, багровые отблески адского пламени, полуобнаженные фигуры суетящихся у пламени людей, жизнь преисподней, горе людское, черные муки, черный дым над трубами, сплетающийся в видение бесжалостного, грозного, жестокого Молоха.
«Ко мне приходили люди с исповедью, за последним словом утешения, — говорит о. Павел. — Годами стоял я у огромной чаши человеческих страдании, слез, обид, жалоб, непонимания, недоумения, скорби, горечи, бездонного горя, — почти бессильный помочь людям, потому что в своем отчаянии они уже теряли веру в Бога, который есть Свет и Истина. Они изверились в правде. Страшные годы!»...
Да, «чаша страданий». Вон там, внизу, под голубыми лиственницами, в теплом золоте осеннего дня, тихо бродят богомольцы, — простые, добрые, сердечные, хорошие русские люди, каждый из них — брат нам, и каждая — сестра. У каждого из них есть свои горести, свои неудачи, но наверное нет ни у кого такой тяжкой и такой счастливой доли. Всегда, до гробовой доски будут бередить нас образы прошлого, и на черном его фоне каждая секунда нашей жизни будет гореть счастьем, до смертного вздоха мы будем жить в счастье. Будут и у нас свои горести, свои неудачи, но и они будут озарены светом того же счастья, величайшего счастья обретенной Родины.
О. Павел стоит у окна, заложил руки за спину, смотрит на синие дали, тихо говорит мне.
«Какие великие слова, — о вере, двигающей горами! Вот мы здесь, — разве не сдвинула наша вера одну из самых высоких гор? Помните? Осуществлялся Апокалипсис, огненный смерч двигался по земле, Европа захлебывалась в крови, цветущие города превращались в развалины, рушился мир, стоны миллионов умирающих, убиваемых, сжигаемых, умучиваемых поднимались к небу, черному от дыма, а мы с вами говорили только об одном. Ежесекундно смерть могла поглотить и нас в этом кровавом хаосе, а мы стояли на своем. Мы были как без умные, потому что ум утверждал противоположное. Мы говорили, что все пройдет, и мы вступим в счастье. Мы верили, — и вера сдвинула горы».
Он волнуется, он ловит мои руки, жмет их, слезы радости слышны в его голосе.
«Послушайте, послушайте, родной мой! Разве не чудо вот эти сады, рощи, деревянные русские крылечки, церковки, весь этот безмятежный мир, — и мы в нем!»...
Легкий ветерок дует в окно, шевелит занавески. Длинная легкая паутинка «бабьего лета» протянулась от занавески к занавеске, подрожала и уплыла; донесло мелодичный бой часов с лаврской колокольни.
«А как живется вам здесь, в Лавре, о. Павел?».
«Я именно счастлив, иначе не могу определить своего внутреннего состояния. Пригодилось здесь и то хорошее, что было в тяжелом моем прошлом: — образование, любовь к книгам, знание языков. Я заведую большой монастырской библиотекой, много работаю, занимаюсь переводами, часто бываю в Москве, в Патриархии, удостоен высокой чести лицезреть Его Святейшество Патриарха, беседовать с ним, — разве смел я и мечтать об этом, скромный монах, изгой?!».
Мы выходим на воздух, на солнце, гуляем по аллеям; проходят монахи, богомольцы, экскурсанты, иногда видишь представительную крупную фигуру Наместника Лавры, архимандрита Иоанна. Идем к первым камням обители, к древнему Троицкому собору, спускаемся к входу в Луковую башню стены, охраняемую двумя «полонянками», — польскими пушками, идем по галлерее мимо амбразур, «машикулей», пушек-пищалей и подвижных короткорылых мортир—«тюфяков». Посреди башни стоит громадный кованый котел. С волнением заглядываю я в нижнее отверстие «машикуля». Кто, корчась и визжа, летел вот здесь с лестницы под сильной струей кипятка или смолы? Жестокие сечи, подкопы, туры и всяческие «стенобитые хитрости», — а через узкую прорезь бойницы видны все те же дальние леса, что и столетия назад, и трудно представить себе, что когда-то на горячих маленьких конях скакали в них, потряхивая кожаными колчанами, татары хана Едигея, и со стоном валилась в огонь костра белостволая русская береза, ложилась кровавым отблеском на малиновый, голубой и зеленый бархат кунтушей, на кривые длинные сабли, на седые висячие усы польских панов... С благоговейной бережностью тихо касаюсь я порванной и пятнами заржавевшей кольчуги. Может быть, к сыновним моим пальцам пристанет невидимая в микроскоп частица священной крови, пролитой четыре столетия назад за дивную мою Родину!...
Тает день, и вновь над крестами Лавры, над садами города, над полями, холмами, березовыми рощами плывет густой мирный звон. Мы стоим на крепостной стене, на самом верху, над галлереей. Длинная площадка ничем не отгорожена, и от высоты слегка кружится голова. Глубоко внизу, под старыми липами у Троицкого собора, по дорожке медленно движется согбенная фигура восьмидесятилетного схимника Алексия. Он в своем смертном одеянии, — в черном куколе, в мантии с изображением креста и адамовой головы над скрещенными человеческими костями. Кажется, что доносится грубый лязг вериг, и вместе с этим живым видением пятнадцатого века вот-вот оживут, задымят кострами, наполнятся человеческим гомоном, подымут хоругви, загрохочут пищалями и тюфяками старые крепостные стены...
Вечер, — мягкий, тихий, теплый. В посветлевшем небе горит золотая чаша колокольни, в густом розовом солнце купаются стрижи, стремительно ныряют в пролеты высоких окон. Мы сидим на скамеечке под липами и слушаем скромного монастырского трапезника о. Сергия. На груди его пестреют семь орденских ленточек. В рядах Советской Армии прошел он по многим дорогам Родины и Западной Европы, и великий день Победы застал его в далекой Японии. Я только что был в маленькой и легкой, точно игрушечной, церкви св. Михея и рассматривал художественные фрески, изображающие учеников и «собеседников» Сергия Радонежского. Там в списке сподвижников великого игумена, наряду с прославленными святыми Русской Церкви, значатся и иноки монастыря — Александр Пересвет и Андрей Ослябя. Сейчас я вслушиваюсь в неторопливый голос о. Сергия, украдкой поглядываю на курчавую бороду, в ясные, живые и мечтательные глаза, на очень русское родное лицо под черной скуфьей и невольно думаю о том, что наверное и далекие предшественники его, лаврские иноки, герои поля Куликова, были такие же, как и он, — скромные, тихие и мечтательные, и вместе с тем по самой натуре своей не умевшие отделить подвига от жизни.
Темнеет. Прощаюсь с о. Павлом, крепко жмем друг другу руки, — до завтра. Спать не хочется. Опять сижу на крылечке гостиницы. Высокое небо в звездах, и ярче всех очерчивается Большая Медведица. Еще совсем недавно, — а кажется, уже сто лет назад! — с какой тоской, с какой мольбой вели мы с молодым монахом линию от ее ковша, от края его к Полярной звезде, — укажи нам путь, выведи нас в отчий дом! Теперь спокойная, ласковая, русская тихо стоит она над поседевшей моей головой, — путеводная, ясная, не обманувшая.
Р. Днепров