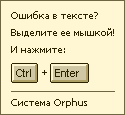ВСТРЕЧА В ЧЕРКИЗОВЕ
Черкизово... Три года назад в далеком Париже взволнованной рукой заносил я в записную книжку это название, и какой же поток чувств горячих, нежных и сладостных заливал тогда истомившееся давней тоской мое сердце при одних только звуках этого старинного русского имени!...
В знойный день конца лета я шел с настоятелем черкизовского храма о. Павлом Цветковым по огромной площади. Впереди нас неторопливо двигалась высокая фигура — Митрополит Николай Крутицкий. Владыка был в простой черной рясе и черной скуфье, и только драгоценная панагия указывала посвященному на его высокий сан, — но и при всей скромности монашеского одеяния была величественна в своей представительности эта фигура. Мы прошли мимо золоченой звезды в асфальте, отмечающей рождение Парижа, его первый камень, впереди всходила к небу темная узорная громада собора Парижской Богоматери... В те дни, три года назад, я имел высокую честь и счастье неоднократно сопровождать Владыку Николая и его московских спутников по достопримечательным местам Парижа. Это была неделя самой высокой радости для десятков тысяч верующих в зарубежье, неделя воссоединения ста Западно-Европейских русских православных приходов с Матерью-Русской Церковью, — истинно Пасхальная неделя, когда в сердцах массы русских людей, силою самой страшной жизненной своей ошибки выброшенных за пределы Отечества, прибытие высокого посланника Церкви и Родины, «Вестника радости», как назвали его тогда в Париже, вызвало огромный и светлый взрыв самых чистых, самых высоких чувств, спавших дотоле под гнетом безнадежности, тоски, нужды, страхов, житейских повседневных забот и лживой, злобной, темной, неустанной пропаганды врагов великой нашей Родины и ее Церкви.
В те незабываемые дни частых встреч с членами Патриаршей делегации я и познакомился с о. Павлом, — приветливым, необыкновенно привлекающим к себе, скромным и ученым московским «батюшкой». Все в нем, — его радушие, манеры, неповторимая, несравненная, живая, московская речь, столь необычная среди людей, говоривших уже на каком-то иссохшем, мертвом языке, как бы по-латыни, — все волновало тогда меня ощущением непосредственной близости к Родине, по которой больше четверти века болела беспокойная и неутомимая душа моя.
В те дни газеты Парижа много писали о невиданном событии в жизни русской колонии. Часто упоминалось и имя старого уважаемого московского протоиерея. Много зарубежных москвичей и москвичек, взволнованных и нетерпеливых, приходили узнать у земляка, — что же стало с родным городом, какова сейчас Москва, столица, что с издревле чтимыми святынями ее, соборами, церквами, — а детство каждого из приходивших непременно связано было с одной из этих церквей. И удивлением и жалостью отвечал на эти вопросы московский «батюшка», когда посещал он нищие церквушки русского Парижа, справедливо называвшиеся «пещерными», ютящиеся в бараках и гаражах, чердаках и подвалах, сараях и бывших конюшнях, окруженные иноземной любопытной, падкой до зрелищ, толпой и суетливым шумом огромного чужого города, — жалостью и удивлением: как можно вот так, десятилетиями, жить вне Родины, бесплодно и безвольно томиться о ней, питаться далекими и уже смутными и искаженными воспоминаниями, когда сама-то она не только не ущербилась, но возросла до величия, невиданного в ее истории? И, пытаясь разговориться с русской детворой, уже теряющей родной язык, или слушая картавящего молодого причетника, сокрушенно качал головой коренной русский человек, москович: «Вижу, вижу, как истощается жизнь вне Родины, — так же истощается, как и Церковь, оторванна от жизни».
С трепетом слушал и я рассказы о. Павла о Родине. Тогда была она для меня еще Обетованной Землей, к которой готов был я ползти на коленях по самым острым камням. Но вот пришло самое большое, самое светлое, несказанное чудо моей жизни, — рухнули все преграды, и я в числе многих зарубежных русских людей получил право и возможность вернуться под отчий кров после почти тридцатилетних скитаний по полям, городам и весям инородной и иноверной чужбины.
Словами некоего древнего благоговейного и благозвучнейшего акафиста хотелось мне говорить тогда — но нет, бессильно и самое выразительное человеческое слово передать то волнение, которое физически выдерживает сердце не всякого человека, переступающего священный рубеж Родины после столь долгой разлуки с нею. Как сильно, до неузнаваемости, изменился внешний и духовный ее облик, как поднялись и окрепли в народе моем, всегда великом, свойственные ему чувства соборности, самоотречения, жертвенности, справедливости, высокого внутреннего достоинства!.. А вот и Москва, — новая, юная и сильная, сохранившая древние свои святыни, но и блестящая мировая столица и светоч правды для миллионов страждущих на земле!..
...Чудесное летнее утро, солнце на карнизах старинных особняков, белые облака в бездонном синем небе, липовые аллеи, неведомым волшебством в одну ночь выросшие вдоль широчайших проспектов, детский смех и мгновенные взблески радуги над седой пылью, над сильной струей, бьющей в тротуар, — Москва! Сверкающие огнями, мрамором, фарфором, майоликой, хрусталем, подземные величественные дворцы единственного в мире метро; конечная станция Сокольники — золотые кресты в цепях и стройные купола собора в ослепительной синеве, и пышно клубящаяся зелень парка вдали: веселый бег позванивающего трамвайчика, мимо железобетонных и гранитных новых громад, столетних особнячков и кое-где сохранившихся старокупеческих лабазов, по улицам петровского Преображенского, давно включенного в пояс «большой» Москвы. Сады все чаще, улицы все шире, зелень все гуще, людской шаг все неторопливее, — город уступает место дачным просторам. Еще несколько минут, — и с пригорка широко открывается Черкизово, и новый человек не может здесь не остановиться хоть на несколько секунд в истинном восхищении: пологий мягкий спуск идет к зеркальному пруду, к деревянному горбатому мосту через него; голубая гладь воды теряется далеко влево, в клубах зелени, ровно восходит на другом берегу зеленая гряда; песчаная дорожка идет в гору, и над густыми валами, над широчайшим разливом зелени встает изумительная шатровая колоколенка и синий купол церкви. А вокруг, — сады, сады, деревянные домики с резными наличниками окон, не городские просторы света и воздуха, какое-то буйство цветов, — цветы за заборами и частоколами, в садах, в палисадниках, над аккуратными клумбами, в окнах. Мезонинчики в деревянных колонках, резные крылечки, шесты над голубятнями, старые скамьи под высокими, как эвкалипты, березами, и такая завораживающая спокойная тишина, что кажется, будто и игрушечные дома эти, и пруд, и сады, и чудесная церковка сошли с гравюры, конца прошлого века, изображающей уездный городок; и диким страшилищем показался бы здесь трамвай, — хотя совсем рядом, за липовой рощей, широко лег спортивный стадион, скрыты зеленью многоэтажные дома новой Москвы и бегут перед домами этими, шурша тяжелыми шинами по асфальту и бросая с проводов гроздья голубого света, нарядные троллейбусы, а под землей тянутся трубы саратовского газопровода, — все может позволить себе богатейшая столица, «золотая Москва»: и невиданные в Европе, рождающиеся в один год дома-дворцы на основных магистралях, и вот эту оживленную старую гравюру.
Вот «Штатный» переулок. Большой одноэтажный деревянный дом под железной крышей, крылечко, сени, коридор, мохнатая дорожка на выскобленном полу, воздух обжитого старого гнезда. Встреча наша горяча, радостна. О. Павел ведет меня в прохладу комнат, и, сидя в старых креслах просторного кабинета, мы вспоминаем наше знакомство, далекий Париж, самодельную утварь наших русских церквей и холодную учтивость чужой земли. Потом хозяин рассказывает мне историю Черкизова. Я рассматриваю старинные карты местности, — из полстолетия в полстолетие неизменно отмечающие храм, построенный на горе еще в четырнадцатом веке, — и гравюру шестидесятых годов прошлого столетия, где виден густой бор, речка Сосенка, превратившаяся сейчас в этот зеркальный пруд, церковь и несколько низеньких домиков вокруг нее, — тогдашнюю подмосковную деревушку Черкизово.
После чая о. Павел с любовной гордостью хозяина показывает мне свой сад, кусты малины и крыжовника вдоль забора и широкие гряды огорода, который возделывает он сам. Под широчайшей липой, которую так и хочется назвать «дубом Мамврийским», вкопаны скамьи вокруг стола, на котором в праздничный день шумно встречает гостем самовар. В летней застекленной веранде стоит небольшой токарный станок, — здесь работают сын о. Павла, молодой инженер, и жена его, еще студентка того же института, который недавно окончил и он.
— Ах, милые мои механики, — тихо улыбается о. Павел. — Вот строют новую жизнь, — хорошую, добрую, радостную. Их молодость лучше, светлее, шире нашей.
Мы выходим на улицу, в тень широких лип, и, решительно, все встречные, — старики, женщины, молодежь, кланяются уважаемому своему «батюшке».
— Как идет время! — медленно говорит о. Павел. — Кажется, и сам, еще совсем недавно, впервые шел по этим улицам, а уже сколько стариков похоронил за тридцать без малого лет, что живу здесь! Молодые заняли место стариков, дети стали взрослыми, и шумно поднимается новая поросль. Чудесная, воспитанная, приветливая детвора у нас, в Черкизове. Даже вишенника моего не трогают, — смеется о. Павел. — А мне на их месте очень трудно было бы справиться с таким соблазном, — хорошие у меня вишни.
Небольшое кладбище, в кустах сирени и белостволых берез, тесно окружает церковь чугунными и деревянными оградами, крестами, мрамором памятников, заросшими теплым мхом столетними плитами. Золотые солнечные потоки струятся через стрельчатые окна купола; внизу, в светлом полумраке, блестят иконные оклады, старинные кованые свечники, резные золоченые хоругви. Благоговейно прохожу я мимо древних чтимых икон Иерусалимской Божией Матери, Трех Святителей, Покрова, Свят. Алексия, сопровождавших в 16 и 17 веках царскую ставку в боевых походах. На четырехъярусном, сплошной резьбы,, золоченом, византийски-пышном иконостасе XV века восхищает глаз, и сердце дивная роспись «Двенадцати Праздников».
Я долго стою в левом приделе храма, перед фресками стен и сводов, упоенно любуясь прозрачнейшей легкостью красок, классическими строгими линиями, уставными ликами святых и изумительным мастерством, с которым переданы бархат, шелк и парча одежд.
Это большое украшение церкви и некоторая наша гордость, — говорит о. Павел. — Несколько лет назад крыша над приделом дала течь и стала портиться старая стенная роспись. Было тогда не до ремонта, враг стоял под Москвой, выли сирены, рабочие руки были на фронте и по военным заводам. Только два года назад удалось приступить к реставрации, и вот тут нам посчастливилось, — мы нашли целую семью замечательных мастеров, палешан, потомков знаменитого церковного живописца Блохина.
О. Павел ведет меня в ризницу и показывает мне драгоценные митры и облачения золотой и серебряной парчи на белом, пурпурном, голубом, палевом, зеленом, синем бархате.
— У нас богатая церковь, — удовлетворенно замечает о. Павел. — Может облачить больше двадцати гостей — священнослужителей.
Бережно касаюсь я тяжелых чеканных сосудов изумительной отделки и новенького резного кадила для архиерейских служений, вышедших уже из советской мастерской церковной утвари и по тонкости работы не уступающих лучшим образцам старины. Потом радушный хозяин показывает мне особую ценность церкви, и я надолго склоняюсь над «молебным» Евангелием, тщательно хранимым и в богослужениях не участвующим. Оно вышло из печатни тогда, когда у «тишайшего» боголюбивого царя Алексея Михайловича еще не родился сын Петр, — в 1668 году. Священник А. Веригин, настоятель храма в начале прошлого века, старинным кудреватым почерком на задней стенке переплета почтительно замечает, что через шестьдесят лет священной книге будет два столетия. А вот уже давно минуло и два с половиной, а она все еще волнует сердце любителя церковной старины вязью славянского текста, разнообразным орнаментом страниц, искуснейшими заставками, бессмертным пергаментом своих листов, резными застежками, небесно-голубой эмалью, бисерно-мелкими насечками, чернью и золотом украшений на тяжелых досках переплета.
Мы выходим из церкви. Длинные тени берез легли по обрыву, под низким солнцем алеет песчаный берег. Я прощаюсь с о. Павлом, с его приветливой улыбкой и добрыми глазами на таком русском, милом, родном лице. Вечер тих, мягка прибрежная тропинка, по зеркальной воде тихо идет лодка, и темная фигура рыбака и косо поднятая удочка безупречно повторяются в недвижном светлом серебре. От густой зелени из-за заборов сильно, сладко и нежно пахнет жасмином, и вдруг где-то, в темнеющих валах недалекой рощи рождается и широко раскатывается, охватывает зеркальный пруд и окрестность, торжествующе звенит, переливается, рассыпается в хрустальной чистоте соловьиная трель.
И опять, как уже несколько раз за эти полтора года, все кажется мне удивительным, затянувшимся, волшебным сном. Вот-вот кончится он, и опять, — холод и могильный мрак чужбины!.. Я думаю о чуде моего второго рождения, о несказанной красоте, открывшейся в людях и природе ослепленным очам и потрясенному сердцу моему, о только что отгремевшей величайшей войне, о страшной скорби и несказанных муках, стойко и гордо перенесенных страной, о скромном деревенском «батюшке», молчаливо всходившем на скамью виселицы и широко, в последний раз благословлявшем родные поля и закованный в цепи свой народ, — и о неслыханной в мире победе; о воскресших подвигах благоверного князя Александра и иноков Пересвета и Осляби и о свете невиданной славы, осенившей родную Церковь. Идет дальше взволнованная мысль моя, я чувствую, что сила Русской Церкви именно в том, что она не отходит от народа, разделяет его судьбу, все тревоги и радости его жизни, вне которой самые высокие помыслы, самые благородные побуждения подлинно «истощаются», становятся сухой отвлеченностью... Щедра, высока, исполнена необъятной любви, чистым дыханием своим восходит к горним пределам душа народа нашего, — какое неоплатимое счастье родиться в твоих пределах, Россия моя, дивная моя Родина!..
Р. Днепров