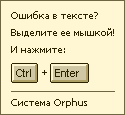ПАМЯТИ МИТРОПОЛИТА ЕВЛОГИЯ
Смерть, давно ожидавшаяся, и, как всегда, все-таки неожиданная, — как примириться со страшным и непостижимым мигом перехода в вечность?
Отчего так тянулись к нему человеческие сердца? В его поколении были пастыри более яркого характера, большей воли, большей личности, большего блеска, — почему же именно за ним шел тот «простой человек», который составляет в массы верующих?
Был он широко и щедро обласкан «сильными мира сего», авторитет его в кругах инославных западных «столичных» церквей был исключителен. Но неизменно всю жизнь стремился он к «простому человеку», и чем проще был человек, тем свободнее, душевнее, слаще ему с ним было. Уже в самом внешнем его облике, в этих овальных старинных очках с железной оправой, в простенькой речи, в доброй простодушной улыбке, в стесненных жестах, в откровенности, доходившей до наивности и любопытства детского, в его невзыскательности было что-то глубоко успокаивающее, мирно провинциальное, неуловимо очаровывавшее и подкупавшее. А непритязательность, невзыскательность его доводили до удивления, — давний след бедного сельского детства. Вкуса и качества еды не замечал, — хоть совершенно чужд был аскетизма, — «митрополичьи покои» его, в которых прожил он двадцать лет, были скромнее сторожки в ином храме, и любимое облачение его, подчас стеснявшее сослуживших с ним приезжих архиереев, было из грубого сурового холста, вышитого желтым и голубым, рожью и васильками. В облачении этом, напоминавшем о деревенской полевой России, он, согласно его предсмертного желания, и погребен.
Если в невольной столице нашей, Париже, был окружен он благоговейным почитанием, то трудовая провинция бережно и нежно и восторженно его любила, и каждый его приезд в какой-нибудь Альгранж, Монтаржи или затерянный в альпийских ущельях заводской Риуперу был длительным и торжественным и веселым праздником, с общей Трапезой после службы, с приглашением из дома в дом, с поднесением немудрых подарков, с непременной концертной или театральной программой и «живыми картинами» в исполнении детей. Детей же он любил так, как не умеют их любить взрослые, — в их обществе он растворялся, становился равным им, — ибо и сам истинно детским, чистым, обладал сердцем. В последние месяцы, когда уже почти никого не принимал он, дети неизменно имели к нему доступ. Той же доверчивой любовью платили и они ему. Помню, в рабочем при-парижском городке в престольный праздник после обедни подошла к нему группа детей. Подросток- девочка, присев, начала свою речь, но, взволнованная до крайности, забыла тщательно выученный текст и дальше «вашего высокопреосвященства» не могла пойти. Стоявший рядом с нею пятилетний бутуз, увидя широкую ободряющую улыбку владыки, сказал.
— Батюшка, она совсем запуталась. Лучше ты расскажи нам что-нибудь.
Старая петербургская епархия не насчитывала в Европе и десяти приходов. Он довел их число почти до ста. Эти бедные церковки в пунктах русского рассеяния, построенные трудовыми руками в свободное от заводской работы время, — это его заслуга. Но всегда требовал он, чтобы не только молитвенным домом была церковь, но и центром русской культуры, русской пропаганды, и первую заботу его составляли те же дети, стремление уберечь их от денационализации. Посадив на колени малыша, говорил:
— Вот оба мы русские, а сговориться не можем. Я по-французски кроме «бонжур» да «мерси» ничего не знаю, а ты по-русски ни слова. И с укором говорил смущенным родителям.
— В Турции он по-турецки говорить будет, в Испании по-испански, в Японии по-японски, а в России по-каковски? Вы уж лучше ему и имя перемените.
Был прост и совершенно для всех доступен. В мирной беседе любил вспомнить семинарские времена и бедную свою юность, рассказать о своих молодых встречах с виднейшими впоследствии церковными иерархами его поколения, о митрополите Сергии, о митрополите Антонии Храповицком, о Государственной Думе и своей работе на Холмщине. Благословив трапезу в семье какого-нибудь русского рабочего, не отказывался от рюмки водки, но ей предпочитал рябиновку, которую называл «поповским напитком» и «дроздовкой», — за то, что дрозды клюют рябину и за то, что суровый митрополит Дроздов не переносил спиртного. Любил, по русскому обычаю, подарки, но широко и сам отдаривал, а пасхальные и новогодние посылочки русским туберкулезным любовно составлял сам. Был необыкновенно добр, бескорыстен, широко щедр, внимателен к собеседнику, любил мирить и, особенно, — венчать. При всей занятости сложной и тяжелой и большой административной работой, всегда и неизменно преисполнен был «веселия духовного».
За тяготение к «простым людям» в некоторых кругах именовался, — впрочем, без злорадства, — «мужицким архиереем». Но за внешней простотою своей был исключительно образован, любознателен и либерален. Первый разрешил у себя радио-передачи церковных служб, говорил:
— Когда-то и против электричества боролись. А на самом деле всякая сила, человеку полезная и человека улучшающая, — от Бога.
Прекрасно знал светскую литературу и следил за нею. Неизменно восторгался Пушкиным, в котором открывал все новые и новые сокровища, любил Толстого и, уже в особом плане, — 'Мельникова-Печеркого и, конечно, Лескова. О Лескове говорил:
— Удивительная проникновенность и чистота. А если бы дожил до наших дней, много нового узнал бы о нашей интимной архиерейской жизни.
Как-то, давно, на первых порах моего общения с ним, я увидел на его письменном столе последнюю книгу толстого журнала, раскрытую на впервые печатавшейся «Митиной любви» Бунина, Не удержался:
— Как, владыка, вы читаете эту повесть?
— Не читаю, а уже перечитываю. Критики пишут, что это вещь «соблазнительная», по-нашему — греховная. Неправда. Замечательно написано, глубоко и правдиво о том темном, что бродит в человеке. Легко так вот, со стороны, осуждать, — нет, надо глубоко входить в жизнь, в ее недра, основы, и там исправлять ее.
Не осуждать, не наказывать, а исправлять, — вот основное и руководящее отношение его к человеку. Отсюда и та широта прощения, которая ему была свойственна в исключительной мере и которая многими почиталась за слабость.
Не переносил лести. Если в ней рассыпался кто-нибудь из посторонних, приезжих, — лицо его становилось необычно для него строгим, каменело, он закрывал глаза. Если хвалы возносил «свой», он махал руками и кричал:
— Что вы, что вы, не грешите, не вводите в соблазн. Ведь это же все неправда!
Властолюбию был чужд, но по самой природе своей был властен, властен как бы по долгу, как властен глава семьи, — мягкий и мирный в обычное время и неуступчивый и суровый в минуты опасности. Отрыв свой от Московской Патриархии переносил с крайней болезненностью, но не пойти на него не мог, ибо опять-таки до натуре своей почел бы бесчестным оставить десятки тысяч пасомых, — так как знал и то, что если оставит их, — они ринутся в раскол еще худший. О митрополите (впоследствии патриархе) Сергий, с которым издавна связан был узами личной дружбы, говорил со слезным волнением, расхождение с ним было его душевной трагедией, и, знаю, в одиночестве он много и усердно за него молился. Зато, когда пришли дни испытания, — политически такой же малосведущий и неискушенный, как и окружавшие его, — бесхитростным и честным русским своим сердцем почувствовал он единственно правильный путь и стал на него решительно и смело. Когда в Александро-Невском храме под давлением немецких агентов служились панихиды и молебны, носившие политическую про-гитлеровскую окраску, он не только не участвовал в служениях, не только не присутствовал на них, но всегда находил случай оставить пределы церковного двора, и был период, что он сидел под домашним полицейским арестом. По воскресеньям, видя у церкви из окна своей кельи фигуры в шинелях всяких шпейеровских и тодтовских организаций, говорил с сокрушением:
— Зачем, зачем на русских плечах немецкие погоны? Зачем они здесь? Шли бы уж лучше в немецкую кирку.
В тяжкие месяцы Сталинграда он физически, на глазах, слабел, худел, впадал в апатию. Говорил:
— Неужели «они» победят? Нет, не верю. Господи, Господи, пошли сил нашему страдающему народу!..
Вспоминаю мои длительные и тайные беседы с ним во время оккупации. Политически в значительной степени живший еще в плену старых представлений, он иногда с сомнением относился к тому, что говорил я ему о жизни в Советском Союзе, — да и что, в самом деле, мог я привести ему в доказательство моей правоты? Но вот однажды к нему пришел русский юноша, сын близкой к митрополиту семьи и которого он знал ребенком, — пришел, и сказал, что никому и ничему не верит, что хочет итти переводчиком на фронт и там самому убедиться, где правда, где ложь. Через полгода он приехал в отпуск и ночью пришел к владыке. Изможденный, с горящими глазами, задыхаясь от злобы, он рассказывал о том, что видел сам, — о непереносимых ужасах, творившихся оккупантами на потоптанной и поруганной русской земле. Владыка слушал, низко опустив голову, по дряблым щекам его лились слезы. Он встал, перекрестился, благословил пришедшего, сказал:
— Идите на подвиг. И знайте, что никогда они не одолеют Россию. И никогда и нигде не будет им прощения!
При отступлении немцев юноша был застрелен за связь с партизанами.
А когда стали доходить вести, что церковь — с народом, что духовенство в рядах воинов, что повсеместно служатся молебны о даровании победы, что идут кружечные сборы и подписка на помощь армии, что, как и встарь, весь народ гневно встал на защиту Родины, — он радовался открыто, ни перед кем радости своей не скрывая и тем рискуя собой в сложной и темной обстановке тех дней. Он стал крепче, бодрее, помолодел.
Когда же пришло освобождение, но бои еще шли за Парижем, он, — далеко опередивший своих духовных детей и чувствами своими и пониманием обстановки, — в первые же дни после торжественного молебна произнес горячее слово перед растерянными, страшившимися будущего, соотечественниками и поздравил их с победой, — «со скорой и несомненной нашей, русской победой над исконным врагом». В эти же дни первой его заботой было, — установить связь с Местоблюстителем Патриаршего Престола, чтобы затем окончательно воссоединить многочисленную свою паству с Матерью — Русской Церковью. С готовностью, которая в те времена страха перед советской властью граничила с мужеством, встретился он с представителями Советского Посольства, чтобы через них передать первое послание к митрополиту Алексию, и в дальнейшем встречи эти стали уже обычными. Помню, был он в Посольстве на просмотре только что полученного из Москвы фильма «Погребение Патриарха Сергия». С волнением вглядывался он в дорогие для него черты Святителя, узнавал в сонме иерархов давних друзей, вставал, крестился, был, можно сказать, потрясен, и в одном месте фильма с детским простодушием воскликнул:
Смотрите, у него (Патриарха) походка еще слабее моей. Значит, я еще поживу.
В те дни поднятие «пожить» носило для него особый и глубокий смысл. Сидя после сеанса в посольском кабинете, он подробно и с любопытством расспрашивал присутствовавшего здесь члена Грузинского правительства, только что прилетевшего из Москвы, — не страшно ли лететь, не холодно ли, не очень ли качает. Пояснял:
— Дожить, дотянуть. Встречусь, завершу самое большое дело моей жизни, со всей паствой стану на колени перед Святейшим Престолом, примирю братьев родных, русских, православных, а там, — «Ныне отпущаеши», — на покой, куда-нибудь в монастырь, тихо домаливать свои дни, потом сложить усталые кости... А очень хочется полетать на самолете, на этом самом сказочном ковре-самолете.
Приезд в Париж владыки Николая Крутицкого поверг его в столь сильное, глубокое и счастливое, волнение, что врачи опасались за его сердце. Мы все помним эти воистину пасхально-светлые, озаренные непрестанной радостью, вознесенные над жизнью и незабываемые дни. Как часто потом владыка Евлогий с тоской по нем и любовью вспоминал митрополита Николая, с каким волнением восклицал: «Какая душа, какой свет, какой удивительный человек, какой боговдохновенный пастырь! И как счастлив я этой встречей и тем делом, которое мы завершили совместно!»
Воссоединение зарубежной церкви с Московской Патриархией проходило не без препятствий. Часть духовенства сопротивлялась примирению, и нужны были вся воля и весь авторитет почившего, чтобы дело совершилось. Политиканствующие священники ставили условия, жонглировали словом «политика». Владыка говорил:
— Не понимаю я их. Политика, — это когда обманывают, хитрят, лицемерят, лгут. А это какая же политика, это — действие. Вот они же бывают тут в церкви, советские люди. Они все говорят, — «да, наша власть настоящая, хорошая, народная власть». Кого же, как не их, живых людей, нам спрашивать? Значит, — будем заботиться о благе церкви, а от того, что нужно и дорого Родине отворачиваться? Так ведь вот это-то и будет политика, т. е. хитрость и ложь. А понастоящему, если я православный и русский человек, дороги мне и Церковь, и отечество.
Это противопоставление слов «политика» и «действие» очень характерно для его цельной, честной и органически здоровой натуры. И в этом смысле весьма показателен такой случай.
В пасхальные дни, т. е. всего за три с небольшим месяца до кончины, владыка Евлогий написал свое послание к пастве. Никто не «.давил» на него, никто не просил об этом послании, и было оно для всех неожиданным. Он вызвал меня для опубликования его в печати. Уже слабел, плохо слышал, говорил прерывисто. С волнением извлек из-под груды бумаг на письменном столе мелко и неразборчиво исписанный листок бумаги и, как бы таясь, сказал:
— Вот, возьмите. Только «им» не показывайте.
«Они» — это были некоторые лица из его ближайшего окружения, не только не согласные с его действиями и прямолинейностью, но и зачастую просто саботировавшие его работу.
— Нет, подождите, дайте я вам прочту, а то не разберете.
Он начал читать. В послании говорилось не только о церкви, — в нем билась радость за Россию, за ее победу, успехи, невиданный расцвет. Когда он дошел до конца, до стихотворных строк: «Кто собьет златую шапку у Ивана-Звонаря?» — голос его перешел на фальцет, он тяжело поднялся, Обнял меня и заплакал:
— Кто, кто?.. Кто посмеет поднять руку на нашу великую, прекрасную, светлую Родину!
Этот листок, покрытый мелкими расползающимися строками, этот последний, написанный им документ, я переслал владыке Николаю.
Бедному «мужицкому архиерею» нашему не суждено было «дотянуть до монастырька». Но и на чужой земле умирал он с легкой совестью, отходил безболезненно, — умиротворенный, просветленный, до последней минуты сознания радующийся России.
А не задолго до кончины возглавил он небольшую группу бывших эмигрантов, — первых, получивших советские паспорта, — светлый пастырь, человек чистого и честного сердца и великий русский патриот.
Р. ДНЕПРОВ
Август 1946 г.
Париж.