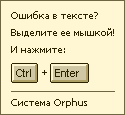ВНУТРЕННИЕ ЗАКОНЫ И ВНЕШНИЕ УЗАКОНЕНИЯ В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ ИКОНОПИСИ
Древнерусская иконопись представляла собою явление высокого и благородного искусства. Создатели изумительных по впечатляемости икон были замечательные мастера, коих с полным правом и основанием можно поставить в один ряд с современными им гениальными художниками западно-европейского искусства.
Однако русские художники-иконописцы были объединены некоторыми, регламентирующими их деятельность, специальными законами и установлениями, которые накладывали свой отпечаток на всю их работу и в зависимости от времени или способствовали, или тормозили как эстетико-стилевой, так и чисто технологический прогресс развития иконописи как искусства. Эти законы в старой Руси были строги и категоричны, так как они касались такого святого и богоугодного дела, как иконопись, т. е. создание для верующих священных образов, помещаемых в храмах и предназначаемых для молитвы.
Первоначально, когда иконописцы были малочисленны и работали в монастырях, все наблюдение над ними осуществлялось при помощи своего монастырского начальства и осуществлялось сравнительно легко, так как все мастера были наперечет и на глазах у высшей администрации. В дальнейшем, с общим ростом и богатством Московского государства, увеличившиеся потребности и спрос на иконы монастырские иконописцы удовлетворить не могли. Иконопись выходит из стен монастырей. Его начинают заниматься и миряне. Наблюдение над возросшим числом иконописцев пришлось возложить на нарочитых, сведущих мастеров. Так, в Москве, в XVI в. было четыре специальных старосты, следивших за деятельностью многочисленных иконописцев. Приблизительно в эти годы появляются специальные «жалованные» государевы иконописцы, выполнявшие придворные и правительственные заказы и влиявшие на общее состояние иконописного дела в стране. К XVII в. «жалованные» иконописцы объединяются вокруг московской Оружейной Палаты, которая становится подлинным государственным центром в области направления всей художественной политики в стране и одновременно своеобразной учебной «академией».
По общим принципиальным вопросам иконописи неодократно высказывались церковные соборы и высшие иерархи Церкви. Все это также вносило определенное регламентирующее начало в практику иконописания.
Прежде чем специально останавливаться на этих эстетико-художественных регламентациях, применяемых в иконописи в допетровской Руси, нам представляется необходимым дать хотя бы самые краткие сведения о технике иконописи тех лет.
Иконы в те годы все без исключения писались на досках; материалом служили обычно — липа, сосна, иногда кипарис. Доска проклеивалась столярным клеем и покрывалась грунтом — «левкасом». Левкас представлял собой гипс, разведенный жидким клеем. На обработанную таким образом поверхность наносился рисунок. Рисунок и композиция делались или самим иконописцем по собственному разумению или, что бывало довольно часто, использовались «прориси» с наиболее чтимых старинных образов. Прорись представляла собой лист бумаги с пробитыми контурами с определенного образа; она накладывалась на левкас новой иконы и мастер через эти прорезные контуры переносил рисунок на новый образ.
Воспроизведенный таким образом контур обрабатывался иконописцами. Краски, которыми пользовались старые мастера, были натуральные «земли»; они разводились на воде или хлебном квасе с добавлением яичного желтка.
Соответственно артельно-цеховым обычаям, иконописцы очень часто имели свои обособленные специальности. Были мастера, которые писали «доличное», т. е. фон, одежду и т. д., исключая лика; были мастера, которые писали только лики на уже подготовленных их младшими собратиями образах.
Современная наука о древнерусской живописи оперирует в своем исследовании произведениями не старше XIV столетия. Иконы более ранних веков дошли до нас редкими, считанными, единицами. Они или погибли в тяжелые для Руси годы монгольских вторжений, или безвозвратно утеряны в результате многократных и часто невежественных «Поновлений».
За последние 15—20 лет реставрационные работы явили миру несколько поистине бесценных шедевров художественных созданий XI—XIII вв.
Большой авторитет в области древней иконописи стяжал А. Анисимов в результате кропотливого анализа над реставрационными работами памятников живописи домонгольского периода. Он попытался сделать некоторое обобщение о стиле этой иконописи, предшествующей известной нам Новгородской школе (об этой школе см. нашу статью в № 7 журнала). Он пишет: «Русский живописец домонгольского периода, заимствуя у Византии темы и формы, постепенно и понемногу преображал их, комбинируя по-своему отдельные элементы, в зависимости от своего чувства темы и своего понимания формы. Творя новые национальные искусства, он шел, однако, очень медленным путем и тщательно оберегал традицию в смысле сохранения как общего художественного впечатления, так и отдельных деталей формы и даже внешних приемов исполнения» [1].
Так, этим же исследователем установлено, что иконы тех времен не покрывались металлическими окладами или ризами, а в доску врезали драгоценные камни, украшавшие образ. В тех же случаях, когда камней не было, иконописец, следуя установившемуся обычаю, украшал свое произведение рисоваными камнями, отвечающими по цвету и форме распространенным тогда самоцветам.
Из числа произведений иконописи домонгольского периода, открытых за последние два десятилетия в результате реставрационных работ, на первое место надо поставить поистине уникальное создание, не имеющее себе равных в, Европе, — Владимирскую Богоматерь, помещенную теперь в Московской Третьяковской галлерее.
Этот образ, с которого было снято четыре слоя последовательных записей, предстал перед благоговейным взором в своем первоначальном виде — создания XI в. [2].
Первым по времени и по значению документом, который накладывал на свободное творчество иконописцев определенное регламентирующее начало, был так называемый «Иконописный подлинник».
Так как подразумевалось, что образ, создаваемый мастером, должен быть помещен в храме для поклонения ему молящихся, то. потребовалась определенная идентификация изображений всех святых, создаваемых различными мастерами в самых различных концах страны. Иконописные подлинники с успехом выполняли эту задачу. Они делились на «лицевые» и на «толковые».
Лицевой подлинник представлял собою альбом прорисей с древнейших изображений. Пользуясь им, иконописцы не уклонялись от узаконенных церковными властями сюжетов и их композиции. Толковый подлинник давал подробные описания возраста, внешности, одежды и т. д. того или иного святого, чем должны были руководствоваться иконописцы во время своей работы над изображением этих святых.
Иконописные подлинники, наряду со своей положительной ролью, без сомнения, являлись также и тормозящим началом в развитии иконописи как чистого искусства. Они все время сдерживали ее порывы, направляя кисть мастера в сторону строгой иллюстративности определенных, раз навсегда заданных тем и изображений. Лишь талантливейшие мастера могли полностью проявить свою индивидуальность, раздвигая эти суровые рамки узаконений и выходя за них.
Как мы отметили выше, для планомерного исследования и обобщения современная наука пользуется произведениями не старше XIV в. Говоря о последовательном развитии русской иконописи этой эпохи, мы попытаемся остановиться на тех теоретико-эстетических положениях по этому вопросу, которые сохранились до нас от этого времени.
Самым ранним из известных нам подобных высказываний является письмо Епифания Премудрого своему другу святому Кириллу Белозерскому (конец XIV — начало XV вв.). В этом письме древнерусский художник и публицист рассказывает о процессе работы над иконами и стенными росписями знаменитого греческого художника Феофана Г река, долгое время работавшего на Руси и ставшего учителем гениального русского мастера Андрея Рублева. Епифаний Премудрый подчеркивает принципиальное различие творческого метода Феофана Грека и современных ему средних русских иконописцев, связанных в своей работе необходимостью строжайшего следования иконописным подлинникам. Он пишет о виденной им работе византийского мастера: «Когда же он все это рисовал и писал, никто не видел, чтобы он смотрел на образцы, как это делают наши иконописцы, которые, полные недоумения, все время нагибаются, глазами бегают туда сюда, не столько работают красками, сколько принуждены постоянно глядеть на образец, но кажется, что другой кто-то пишет руками, когда Феофан создает образы, так как он не стоит спокойно, языком беседует с приходящими, умом же размышляет о постороннем и разумном; так он своими разумными чувственными очами видит все разумное и доброе» [3]
Феофан Грек был учителем Андрея Рублева. Без сомнения на гениальную от природы творческую индивидуальность русского мастера легли благие семена, заложенные его страстным и не признающим рутины учителем.
Прошло почти столетие и сама творческая деятельность Андрея Рублева в глазах русского народа и его иерархов стала как бы своеобразным иконописным подлинником.
Стоглавый Собор, созванный по повелению Ивана IV в Москве в 1551 г., в своих работах уделивший много внимания иконописи, прямо повелел, чтобы современные иконописцы писали, «как писал Андрей Рублев».
Говоря об иконописании вообще, Соборное уложение, глава 43, предпослало определенное требование о поведении иконописцев в быту. Так мы читаем: «Подобает быти живописцу смиренну и кротку, независтливу, ни пьянице, ни бражнику, ни убийце; но паче хранити чистоту душевную и телесную, со всякими опасениями; не могущим же до конца тако пребывати по закону женитися и браком сочетатися» [4].
Преисполненные подобной нравственной и телесной дисциплины живописцы, по указанию соборного постановления, должны: «С великим тщанием писати образ Господа нашего Иисуса Христа и Плечистые Его Богоматерь, и святых Пророк, Апостол, в образ по подобию и по существу, смотря на образ древних живописцев, и знаменовати с добрых образцев».
В своих дальнейших указаниях по иконописи Собор определенно предостерегает живописцев от отступления от древних образцов и от индивидуального толкования поставленной им задачи; так он предписывает епархиальным архиереям: «Святителям великое попечение и брежение имети, каждому по своей области, чтобы гораздие иконники и их ученики писали с древних образцев, а самомышлением бы и своими догадками Божества не описывали. Христос бо Бог наш описан плотию. а Божеством не описан, якоже рече Иоанн Дамаскин; не описуйте Божества, не лжите слепии; просто невидимо, и незрительно есть, плотию же образ вообразуя, и поклоняемся, и веруем, и славим родшую Деву».
Сделав подобные общие теоретические определения по вопросам развития иконописи. Собор, в обеспечение выполнения их, предписал епископам самим наблюдать за деятельностью иконников и назначать специальных старост-цензоров из числа «нарочитых мастеров».
Постановление Стоглавого Собора впервые ставило вопрос об иконописи на Руси, как вопрос общегосударственного значения. А то, что иконопись к ЭТОМУ времени действительно достигла подобного значения. можно судить хотя бы по известному делу дьяка Висковатого. который публично протестовал против новых икон. украсивших московские храмы после страшного пожара 1547 г. Этот пожар, истребивший почти весь город и заставивший Ивана ГрОЗНОГО покинуть столицу и укрыться на Воробьевых горах, произвел также большие опустошения и в церквах. Для украшения отстроенных затем храмов правительство выписало иконописцев из Новгорода и Пскова, которые создали целый ряд икон по своим местным образцам, чуждым благоговейному обычаю москвичей.
Такой просвещенный человек своего времени, как дьяк Висковатый, публично протестовал против этих новых икон. Он заявлял, что иконописцы, создавая их, «проявили свое мудрование» [5] и что они «писаны без свидетельства». Речи Висковатого породили смущение в народе. Потребовался созыв специального собора 1554 г., где духовные иерархи подробно, пункт за пунктом, обсуждали сомнения Висковатого и давали на них свои объяснения. Собор признал чистоту и законность в вновь сооруженных иконах.
Из этого «розыска» мы узнаем, что известный руководитель посольского приказа дьяк Висковатый свято чтил иконы, но он придерживался восточной старины. Его субъективные вкусы и привычки тормозили прогресс развития иконописи как искусства. В то время, как иконописцы, вызванные в Москву, осуществляли в своих работах новое, «западническое», направление, носителями которого к тому времени были Новгород, Псков и их новая иконописная школа, общее стремление Ивана Г розного к сближению с Европой и ознакомление с ее культурой сделали возможным появление в Москве икон, немного разнящихся от апробированных традицией византийских образцов. Новые иконописные создания, впитав в себя все лучшее из традиции прошлого, обогащали его новыми техническими приемами, новыми средствами выразительности. Так создалась новая московская школа русской иконописи.
Здесь, как мы видим, слились внутренние законы развития древнерусской живописи с регламентирующими ее официальными узаконениями. Вторично, после эпохи Андрея Рублева, русская иконопись совершала свое, чисто органическое восхождение на новую ступень развития, миновав многие десятилетия строгого (временами чисто схоластического) копирования подлинников, рабского подражания раз апробированных прорисей, полученных мастерами многие столетия назад из Византии.
Следующий шаг, когда внутренние законы иконописи сочетались с внешними узаконениями, приходится на середину XVII в. Это был последний, но блестящий взлет русского искусства допетровской эпохи. Прежде чем достичь его русская иконопись пережила почти целое столетие застоя, связанного с эпохой Смутного времени и неустановившейся еще мощью русского государства во время царствования Михаила Федоровича. Всю эту эпоху постановления Стоглавого и следующего (1554 г.) Соборов оставались непререкаемыми и, руководствуясь их буквой, иконописцы эпигонски повторяли старые образцы.
В середине XVII в. в связи с изменившимися вкусами руского общества, с усилением связи Руси с западными и юго-восточными странами, на повестке дня настоятельно выдвигается вопрос о реализме в приложении к иконописи. Одновременно с этим передовые деятели русского просвещения видели, что массовая, чисто ремесленная иконопись, предназначавшаяся для рынка, находится в особенно разительном противоречии с требованиями общеэстетического порядка.
Один из просвещеннейших людей царствования Алексея Михайловича, крупнейший церковный иерарх, ученый, поэт и проповедник Симеон Полоцкий составил царю специальную докладную записку о состоянии иконописного дела в стране. Из этого документа мы узнаем следующие, весьма характерные подробности о положении иконописи тех лет.
Так, автор специально останавливается на иконописи, предназначенной для широкого (провинциального по преимуществу) рынка. Он говорит, что существуют мастера, «художеству не причастные», работающие без заботы «о истинном начертании, ничтоже блюдущие во оном художестве божественные чести, точию себе и считают, дабы чрево свое питати» [6]. Однако, как с горечью отмечает автор, подобная продукция находит большое распространение. — «Торговцы по заглушным уездным местам на торжках и по деревням те образа возами развозят, без всякой чести на все, елико могут, промен творят, зазор своей ни во что вменяя, и во окрестные государства развозят».
Симеон Полоцкий подробно объясняет затем высокое значение иконописания и распространяется о том, как оно возникло и развивалось по указанию Церкви, Соборов, византийских императоров и русских царей. Но, однако, продолжает он, с течением времени «В толикое честное художество совниде некое безчинство... оскудеша в епископиях зографи мудрии и размножишася отпущения; мазари буии наполниша не токмо торговые шалаши и простаков дома, но и церкви и монастыри... От неискусных и беззазорных иконописцев многое неистовство обретается на иконах».
Одну из причин подобного бедственного положения массовой иконописи своего времени Симеон Полоцкий видит в желании населения приобретать иконы ценою подешевле, т. е. общим экономическим положением народных масс. Покупатели, как отмечает он, интересуются прежде всего не художественными достоинствами образа, «а по своему амерению дешевых избирают». Подобное положение, по мнению Полоцкого, делает убыточной работу в области иконописи для хороших мастеров.
Полоцкий видел среди своих современников и больших художников, в частности, Симона Ушакова; он ознакомился с книгой изографа Иосифа Владимирова, посвященной иконописи как искусству (о ней мы будем говорить ниже); все это дало ему основание заключить свою записку красноречивой похвалой благородного труда подлинного иконописца-художника.
Данная работа Симеона Полоцкого легла в основу специального постановления Великого Московского Собора 1666—1667 гг., посвященного иконописи. Собор выпустил особую грамоту, где зафиксировал состояние иконописного дела в стране (термины ее и приводимые в ней факты чрезвычайно совпадают с цитированными выше высказываниями С. Полоцкого. Академик Л. Майков прямо называет его автором этой грамоты). В грамоте Великого Собора, наряду с практическими мероприятиями, — как организация надзора специальных старост за деятельностью иконописцев, надзор духовных властей — мы встречаем совершенно категорическое указание на роль и значение личности иконописца в общем. Соборное постановление стремится поднять социальное значение иконописца, ставя его деятельность выше и благороднее всех иных ремесел, приравнивая иконопись к книжному писанию. — «...Икон святых писателие, тщательные и честные, яко истиннии церковницы, церковного благолепия художницы да почтутся, всем прочим председание художником да восприимут и кисть различно цветно употреблении тростью или пером писателем да предравенствуют; достойно бо есть от всех почитаемые хитрости художником почитаемым быти» [7].
В эти же годы, когда крупный ученый, деятель просвещения и церковный иерарх, Симеон Полоцкий близко принимал к сердцу положение национальной иконописи, а Собор выносил по этому поводу специальные постановления, сами русские иконописцы-художники, обеспокоенные судьбой родного искусства, публично высказались по этому вопросу.
Наличные иконописные подлинники, бывшие в распоряжении в то время у художников, особенно побуждали их к публичному высказыванию. Эти подлинники в ту эпоху уже утеряли свою стройную закономерность; переписываемые из поколения в поколение они, подобно самим церковным книгам, были полны искажений и нуждались в реформе, равной по своей радикальности реформе Патриарха Никона в богослужебных книгах.
В этой обстановке бесспорно освежающее значение имели проникавшие на Русь гравюры с лучших образцов западного религиозного искусства. Пластика, культ красоты тела, наличествующие в этих гравюрах, толкали мысль и углубляли вкус русских мастеров.
Старший собрат Симона Ушакова, государев изограф Иосиф Владимиров, написал специальную книгу, посвященную разбору состояния русской живописи [8]. Поводом к созданию этого замечательного памятника древнерусского искусствоведения послужили нападки некоего серба диакона И. Плешковича на зарождающуюся новую Московскую школу (об этой школе см. нашу статью в № 9 журнала). Сама эта работа посвящена автором Симону Ушакову — крупнейшему русскому иконописцу тех лет и признанному главе этой новой школы.
Иосиф Владимиров — усердный читатель постановлений Стоглава об иконописи. Эти постановления для него незыблемая теоретическая база; практические же примеры он черпает из лучших образцов западного искусства, проникавших к тому времени на Русь и становившихся достоянием наблюдения русской художественной интеллигенции. Многое осмысливает он критически своим умом, отрешившись от схоластического толкования старины. Автор строго отделяет вопросы веры европейских стран от чисто художественных вопросов, встающих при анализе образцов западного искусства. Это строгое и вдумчивое наблюдение дает ему основание поставить следующий основной тезис, подкрепляющий его реалистические вкусы: «Где таково указание изобрели несмысленные спорщики, которые одною формою смугло и темновидно святых лица писать повелевают? Весь ли род человеческий во едино обличив создан? Все ли святые смуглы и тощи были? Если и имели они умерщвленные члены здесь на земле, то там, на небесах, оживотворены и просвещены явились они своими душами и телесами... Кто из благомыслящих не посмеется тому юродству, будто бы темноту и мрак паче света предпочитать следует?» Многочисленными ссылками на священные писания подкрепляет автор выставленные им тезисы. Он подробно разбирает образы распространенных святых и праздников, протестуя против той черноты и мрачности, которыми облекаются эти иконы. Так говоря, например, о Великомученице Екатерине, русский искусствовед XVII в. замечает: «Преславная Великомученица Екатерина по красоте и светлости лица своего так и названа была от Еллинов — тезоименитая небесной луне». Как же можно изображать ее темной и мрачной? Точно так же и на других святых указывает он, возмущаясь ремесленной, чисто схоластической практикой своих современников, находивших себе защитников вроде указанного выше серба Плешковича.
А эти староверы открыто провозглашали, что от красоты священных изображений бывает соблазн молящихся. Благородным негодованием дышит возвышенная речь благочестивого художника против подобных подозрений: «Как же не страшишься ты, о недостойный, взирати на блаженные лики и соблазн помышляти в сердце своем?» Так заканчивает Иосиф Владимиров свои чрезвычайно интересные рассуждения о русской иконописи.
Для Владимирова являются уже осознанными и назревшими такие технологические понятия как светотень в изображении ликов. Автор протестует против плоскосности (или как он говорит «писание сплошняком»); он стремится к объемности, точности рисунка. Все эти понятия, чуждые дотоле русской иконописи, он защищает в своей книге, одновременно стремясь сам, по силе своих способностей, реализовать их в собственных иконописных работах.
Симон Ушаков [9] своим творчеством блестяще доказал возможность применения к иконописи некоторых достижений современного реализма европейских мастеров. Однако он сознательно не порвал с традиционными формами древнерусской иконописи. Он нашел в своем творчестве то равновесие, когда внутренние законы развития иконописи как искусства могли сочетаться с теми узаконениями духовных властей, которые к этому времени были проведены в жизнь.
Святые лики в работах Ушакова и его школы полны истинной святости и величия, свойственного традиционным формам русского иконописания; в то же время, с внешней стороны, они очеловечены с помощью реалистических приемов живописи. В этом мы, например, можем видеть, отличие иконописи XVII в. от всего последующего развития иконописания в XVIII—XX вв., когда художники под видом того или иного святого давали вполне реалистические изображения (а иногда и натуралистические) обыкновенного человека, весьма часто рисуя его с натуры, облекая лишь в одежду первых веков христианства. У молящихся, когда они взирают на работы послепетровских иконописцев, во внутреннем восприятии стираются границы между иконой и стилизованной исторической картиной. А так как каждая картина рисуется художником чрезвычайно индивидуально, лишь отражая его личные представления и чувства, то и иконы нашего времени не всегда могут удовлетворить каждого молящегося, так как они чрезвычайно индивидуалистичны; они лишены того объединяющего и сдерживающего начала, которое мы видели в иконописных подлинниках прошлого.
Наша краткая попытка объяснить взаимоотношения на протяжении многих веков узаконений, проводившихся в иконописи, с ее внутренними законами, должна показать читателю всю органичность и одновременно специфичность высокого и святого искусства русской старинной иконописи.
В лучшие, счастливые моменты своего развития она подымается до вершин мирового искусства, часто превосходя соответственные западные образцы. Это случалось всякий раз, когда художники-мастера, осознавая всю святость стоящих перед ними задач, стремились осуществлять их с помощью последних технических достижений своего искусства, одновременно освобождая свою художественную индивидуальность от тормозящих схоластических пут старинных регламентаций. Это мы наглядно наблюдаем на всей истории русской иконописи.
Н. СЕРГЕЕВ
[1] А. Анисимов, «Домонгольский период древнерусской живописи», стр. 174, сборник «Вопросы реставрации», вып. II, Москва, 1928 г.
[2] См. статью А. Анисимова «История Владимирской иконы в свете реставрации», сборник «Труды секции искусствознания», вып. 2, изд. Института археологии и искусствознания, Москва, 1928 г.
[3] Пометено в сборнике «Мастера искусства об искусстве», т. IV, стр. 15, Москва, ИЗОГИЗ, 1937 г.
[4] Стоглав, Глава 43, стр. 112 и след. изд. «Вольной русской типографии», Лондон, 1860 г.
[5] См. академик Ф. Буслаев, «Древнерусская литература и искусство», т. 2, стр. 282 и след., Петербург, 1861 г.
[6] «Симеон Полоцкий о русском иконописании», опубликовано Л. М. Майковым, стр. 6 и след., Петербург, 1889 г.
[7] Грамота опубликована в книге «Акты, археографической экспедиции», т. IV, стр. 224, 226.
[8] Рукопись опубликована академиком Ф. Буслаевым в книге «Исторические очерка русской народной словесности и искусства», т. II, С.-Петербург, 1861 г.
[9] Симон Ушаков также является автором книги об иконописи. Однако его работа, исполненная большого благоговейного чувства и значительной исторической эрудиции, не представляет для нас интереса на общем фоне развития русского искусствоведения того времени. Она помещена в «Вестнике археологии и истории», вып. XX, изд. Арх. Инст., Петербург, 1911 г.