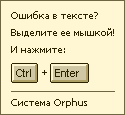ДРЕВНЕРУССКАЯ ИКОНОПИСЬ В ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ
Благоговейно, словно в храм, входите вы в здание национального хранилища русского искусства — Третьяковскую галерею.
И действительно, нация, породившая Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьму Минина, Дмитрия Пожарского, великая нация, выдвинувшая «Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинку и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова» [1] создала и великое искусство — в том числе живопись и скульптуру, — так полно и ярко собранное в залах Третьяковской галереи.
В настоящей статье мы остановимся на одном лишь разделе этой выставки — первом по хронологическому порядку —древнерусской живописи.
В допетровской Руси почти вся живопись носила исключительно религиозный характер. И всю живопись мы с полным правом можем назвать иконописью. Все стремление к прекрасному, тяга к красоте, порыв и устремление в высь, в область духа к Богу, находили свое разрешение в церковных иконах. В мастерстве создания этих священных образов талантливейшие представители одаренного русского народа достигли подлинных вершин мирового звучания.
Расцвет русской иконописи как таковой приходится именно на допетровскую эпоху. Испытав в процессе своего развития несколько ярких и изумительных по форме и мастерскому воплощению стоявших перед ними религиозно-богословских задач взлетов, русская иконопись после петровской эпохи приходит в упадок, непрерывно деградирует, превратившись, наконец, в ремесленные произведения кустарей. В начале XX века талантливые художники Нестеров, Васнецов и др. пытались вывести русскую иконопись из того застойного положения, в котором она находилась, но целый ряд объективных и субъективных причин не дал возможности наступить подлинному возрождению этого святого искусства и не создал ничего могущего встать в один ряд с бессмертными творениями духовной живописи допетровской Руси.
По самым своим задачам, по самому своему назначению иконопись принципиально отлична от близкой, казалось бы, и сходкой с нею мирской портретной живописи. Если портрет обязательно предполагает существованию некой натуры каковую художник точно воспроизводит, стараясь не уклоняться от портретного сходства, то иконописец, в задачи которого входит воспроизвести священный образ или какую-то определенную богословскую мысль, облеченные в наиболее доходчивое для молящихся воплощение, может по своему таланту и разумению, в определенной мере уклоняться от утвержденных церковной практикой «иконописных подлинников» и давать свое решение вставшей перед ним задачи.
Отсюда становится понятным то значение, какое придавали старинные церковные правила самой личности и поведению художника-иконописца во время работы над иконой. Так, в знаменитом сборнике Постановлений Собора 1551 г., известного под именем «Стоглав», приводится требование, чтобы иконописец был «смиренен, кроток, благоговеен; жил в посте и молитве, храня со всяким опасением чистоту душевную и телесную». В том же «Стоглаве» мы найдем определенное требование о непременном следовании старинным «иконописным подлинникам», чтобы священные изображения, создаваемые вновь, не порывали с установившимися издревле традициями и были сразу знакомы и понятны каждому молящемуся.
Основное начало, которое заложено в работе иконописца, это искреннее религиозное воодушевление; художник знает, что перед ним стоит задача создать для массы верующих образ, икону, предназначенную для молитвы. С утратою искреннего религиозного вдохновения, с потерей связи с стариной и народностью, иконопись XVIII и XIX вв. (создаваемая профессиональными художниками и академическими профессорами) лишается свойственной ей ранее духовной красоты и обаяния и низводится до простой живописной картины или портрета, часто, с технической стороны, выполненного более виртуозно, чем старинные иконы. Но, как учит нас философия, форма должна соответствовать содержанию, в противном случае содержание не может достойно и полно выразить отображенную им идею. Это мы и видим в иконописи XVIII и XIX вв.
Остановимся поближе на древнерусской иконописи, как таковой. Ранние из известных нам образцов церковной живописи, т. е. произведения XII и XIII вв., по своим формальным и техническим приемам тесно связаны с монументальной живописью фресок и мозаики (в Третьяковской галерее мы видим такой превосходный образец монументальной живописи тех лет, как киевские мозаики, изображающие образ св. Димитрия Солунского). Иконы этого периода по своему внешнему виду,—широкий, слабо подкрашенный рисунок и резко очерченные лица — очень близки к тому пониманию живописи, которая свойственна византийским фрескам XI—XII столетия.
Свой определенный и твердо очерченный стиль русская иконопись вырабатывает в XIV столетии. Это будет так называемая Новгородская школа. Исследователи [2] видят здесь прямое соответствие художественному рассвету Византии эпохи Палеологов, мастера которой работали на Руси; один из них знаменитый Феофан Грек, расписывавший между 1378 и 1405 гг. некоторые новгородские и московские соборы, был учителем гениального русского мастера XIV—XV вв. Андрея Рублева.
Рублев и его последователи относятся к Московской школе. Его творчество — следующий шаг по сравнению с Феофаном Греком, работы которого типичны для Новгородской школы и ее разновидности, более архаической Псковской.
Новгородская школа характеризуется крупными массивными фигурами святых, при большом размере самих икон. Они предназначались для обширных и величественных храмов, щедро воздвигаемых, богатым и благочестивым населением «господина великого Новгорода». Тон икон красноватый, темнокоричневый, синеватый. Ландшафт — ступенчатые горы и архитектура зданий — портики и колонны — в значительной мере близки подлинной натуре территории Александрии и смежных с ней районов, где происходили события из жизни изображаемых на иконах святых и мучеников. Правы были западные исследователи византийского искусства (Г. Милле, Ш. Диль), подчеркивавшие, что нет никакого основания видеть в расцвете византийской иконописи XIII и XIV вв. соответствующее влияние Итальянского Возрождения. Здесь надо признать осуществление своего, Восточного, не затухавшего с времен эпохи эллинизма цветения определенных живописных традиций и форм. Открытые за последние 10—16 лет памятники христианского грузинского и армянского искусства, даже еще более ранних эпох, лишь подтвердили это прозорливое предположение.
Тип ликов святых и Богоматери — также не русский: продолговатый, «византизированный». Эта характерная деталь в дальнейшем, в Московской: школе, все более и более принимает славянский оттенок, превратившись, наконец, в работах гениального «царского изографа» XVII века Симона Ушакова и его школы в типично русские круглые лица.
Соответственно с этим можно, без сомнения, будет также отметить и саму ту концепцию божественности и святости, которую вкладывали обе эти школы.
Пышная блестящая Византия, столица которой Царьград, по свидетельству всех историков и мемуаристов, была самым богатым городом в мире, а ее императоры рассматривали себя как бы земными представителями Всемогущего Бога, требуя себе почти божеского поклонения. Естественно, и с помощью икон они стремились усилить свой авторитет и силу. Святые Византийской школы, в своем большинстве, точно так же, как и перешедшие затем на стены новгородских соборов и монастырей их отражения — суровы, карающе-строги, величественны. В этом смысле характерны будут изумительные фрески Феофана Грека, которые (оставляя в стороне все различие эпох и приемов) невольно напоминают сурово-мятущиеся фигуры римских фресок Микель Анджело.
Деревянная земледельческая Русь породила иное более интимное представление о святых и Богоматери. Именно на русской почве могли родиться слова молитвы, немыслимые в Византии и совершенно несвойственные католической мистике Запада тех веков: «Заступница усердная рода христианского».
Пресвятая Дева, святые в представлении русского народа были его заступниками и помощниками «в скорбях и напастях». Подобная религиозно-философская концепция совершенно естественно переносится глубоко верующими и остро чувствующими художниками на доски своих вдохновенных икон.
Для иллюстрации нашей мысли приведем несколько сравнений из обеих школ. Возьмем произведения Рублева и В. Черного «Спас на престоле», там колоссальная фигура. Вседержителя исполнена гармонии; Он благословляет, как бы призывая «всех труждающихся и обремененных». Точно таков же и его «Спас» (из «Деисусного чина»). Как разнятся они от «Спаса на престоле» (Новгородская школа XIII века).. Там Вседержитель представлен Грозным Судьей и Владыкой. Если Спаситель на престоле в интерпретации Рублева (да и большинства представителей Московской школы) невольно заставляет душу молящегося вознестись в высь, вызывает слезы благостного умиления, то византизированный Спас Новгородской школы повелевает трепетно и усердно молящемуся пасть ниц, простершись на земле, сознавая свою беспомощность и бессилие.
Наследником и продолжателем рублевских традиций в иконописи Московской школы был Дионисий. В галерее представлена его чудесная исполненная благостного спокойствия и кротости «Одигитрия».
Не трудно отличить и технические особенности созданий этих школ. Фон икон Московской школы нежен. Мы встретим здесь полную гамму золотых тонов — начиная от почти червонного (на более старых образах) и кончая бледнозолотистыми, покрытыми какой-то чудесной прозрачной дымкой. Изменяется и рисунок. Он становится округлее, пластичнее. Одежды, облекающие Богоматерь и святых, ниспадают мягкими складками, под которыми теряются контуры тела. Интересную эволюцию претерпевает и пейзаж, окружающий образ. Если иконописцы по-прежнему чисто традиционно стараются воспроизводить горы, то это как определенная дань живописному канону дается в довольно фантастических формах. Такое же явление мы должны отметить и с растительностью. Чуждые и незнакомые для русского иконописца пальмы принимают совершенно фантастические очертания и на некоторых из них можно обнаружить яркокрасные плоды, напоминающие русскую рябину. Зато совершенно отчетливо постройки «русифицируются», принимая всюду вид пятиглавых храмов.
В середине XVII века в России прославился знаменитый «царский изограф» Симон Ушаков, олицетворявший новую Московскую школу, отражавшую пышность и богатство стабилизировавшегося после Смутного времени и иностранной интервенции быта Московского царского двора и боярской знати.
Произведения этого мастера отличаются особенной мягкостью и округлостью линий. Мастер стремится к выражению не столько и не только внутренней духовной красоты, сколько внешней красоты и, мы бы даже сказали, — «красивости» своих образов.
Исследователи [3] не без основания видят в творчестве этой школы западное влияние и в первую очередь «нидерландских итальянизирующих мастеров второй половины XVI века».
Если работы Ушакова и его товарищей в основном предназначались для храмов, то потребность состоятельных людей в красивой «мерной» иконе для домашнего моления удовлетворяла Строгановская школа, наиболее известные мастера которой: Семейка Бороздин, Истома Савин, Первуша, Прокопий Чирин, полно представленные в галерее, по своему художественному кредо довольно близки к школе Ушакова. Недаром большинство из них с большим успехом работало в Москве.
Есть две иконы в Третьяковской галерее, от которых нельзя оторвать взгляд. Вы часами можете простаивать перед ними, уходя и вновь возвращаясь, находя все новые и новые прелести, испытывая все новые и новые прекрасные чувства. Это Троица Рублева и Владимирская Богоматерь.
Так как в нашем журнале была специальная статья, посвященная Троице Рублева, то мы остановимся подробнее только на Владимирской Богоматери.
Нет, вероятно, в мировой духовной живописи создания, равного по силе вызываемого настроения этой иконе. Мы можете бесконечно часами смотреть на лик Богоматери с Предвечным Младенцем и все время ощущать все новые и новые чувства, далекие от окружающего вас земного обыденного, душа ваша, устремившаяся ввысь к Творцу, к Его Матери, будет давать вам и отдых и вместе с тем волновать, будить заснувшие в вас лучшие благородные и святые чувства.
Необычаен по силе своего вдохновения должен был быть этот анонимный русский автор XI века! Недаром предки наши, находясь под мощным воздействием его таланта, приписывали создание этого образа кисти самого апостола Луки.
Изумительно с композиционной точки зрения дается этот образ. В противоположность большинству изображений здесь Богоматерь с Младенцем скомпанованы как очень высокий равнобедренный треугольник. Младенец не восседает на руках Богоматери, благословляя народ, как, например, в «Одигитрии» (превосходный образец XV века висит рядом). Младенец на иконе Владимирской нежно прильнул к Матери, не обращая внимания на молящегося и как бы дав Своей Матери полную свободу выслушивать мольбы всех к Ней притекающих. Лик Богоматери притягивающ — он в одно время и страшен какой-то суровостью и в то же время печален, как будто Она наслушалась и насмотрелась на такое великое множество грехов людских, что совсем разуверилась в человечестве. Но одновременно с этим лик этот ободряюще ласков — он обещает надежду с верою к Ней прибегающим.
Если в мировом искусствоведении есть целая литература об улыбке Монны Лизы Леонардо Да Винче, то не меньшей литературы заслуживает выражение лика Богоматери Владимирской, помещенной в Третьяковской галерее в самом начале собраний древне-русской иконописи, блестящей и неповторимой жемчужины мировой живописи XII—XVI веков.
Н. СЕРГЕЕВ
[1] И. Сталин — «О Великой Отечественной войне Советского Союза» стр. 28, Москва, 1944 г.
[2] См. например Б. Михайловский и Б. Пуришев — «Русское монументальное искусство в допетровской Руси». Ленинград, 1941 г. или П. Муратов — «Эпохи древне-русской иконописи», Селиванов и др.
[3] И. Грабарь—«История искусства», т. VI. Э. П. Сагавец-Федорович — «Ярославские стенописи и библия Пискатора» в сборнике «Русское искусство XVII века», Москва, 1929 г.