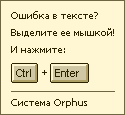СПАСЕНИЕ ЧЕРНИГОВА
«На пути откровений Твоих радуюсь, как во всяком богатстве». (Псал. 118, 14).
Чернигов под властью насильников пробыл ровно два года: от 9 сентября 1941 г. до 21 сентября 1943 г. Но если бы этот областной город остался в руках немцев еще только два дня — 21 и 22 сентября, — или если бы они допускали мысль о том, что им придется уйти из города внезапного от Чернигова не осталось бы ни построек, ни жителей.
Уже после прохождения первого фронта центральная, вполне благоустроенная его часть площадью в квадратный километр, занятая лучшими домами новейшей постройки, превратилась в груды кирпича, из которых торчат громады обгорелых стен. Во время оккупации немцы, надеясь на прочность своего пребывания, кое-что восстановили, привели в порядок и заняли своими учреждениями.
За несколько дней до стремительного ухода врат начал понемногу сжигать и взрывать большие здания (например, электростанцию) однако поспешности в этом деле не обнаруживал и выезжать не торопился, предоставляя возможность оставаться и тем из должностных лиц населения (прокуратура, начальство полиции, администрация), которые решили покинуть город с ними. Только 20 сентября появился немецкий «истребительный батальон» и принялся выполнять свою незамысловатую миссию над мирным, беззащитным людом.
На одной из окраин, на Пяти Углах, стали хватать на улице молодежь для отправки в Германию, усиленно взрывать, жечь и убивать, выгоняя людей из земляных «щелей», где они в страхе укрывались. В числе других погиб тут и протоиерей о. Сергий Бордонос. Человек тихий, скромный и непритязательный, он готовился принять монашество. Прячась в щели возле своей квартиры, он попробовал выглянуть, но наткнулся на немца и тут же был уложен выстрелом. Так благочестивый служитель Христова алтаря нашел покой не в келье Черниговского Троицкого монастыря, а в вечной обители верных Христовых слуг.
Истребителями 20 сентября, в 11 часов ночи была уничтожена уже на противоположном конце города Метеорологическая станция с квартирами служащих. Она помещалась в прекрасном доме, обставленном дорогой мебелью. Прятавшиеся вблизи служащие видели, как в ночной темноте появилось несколько немцев; они выбили окна, переломали мебель, в том числе и великолепный рояль, затем на гору щепок бросили через окно бутылку, и все запылало. Также было сожжено по той же улице еще несколько новых больших зданий: трехэтажная 10-летняя школа, ясли и др.
В тот же день на третьем, наиболее отдаленном краю города, близ Черторийского моста, было согнано население из соседних кварталов: женщины, дети и около 70 мужчин. Долгие часы провели они под стражей, в смертельном ужасе ожидая последней расправы — расстрела или сожжения. Но к солнечному закату немцы почему-то передумали и стали отпускать сперва детей, затем женщин и, наконец, мужчин.
Многие, покинув все свое достояние, убежали в окрестные села, между прочим, и в ближайшую деревню Павловку. Через соседнее с нею селение Гущино, расположенное на реке Десне, три дня велось с неослабным упорством и самоотвержением наступление Красной Армии; снаряды беспрерывно перелетали на ту сторону реки через соломенные избы павловцев; бой немного затихал лишь к ночи. Жители засели в ямы и погреба.
Вечером 20 сентября на краю этого небольшого села показалось пламя: то горели колхозные строения и склады; затем рядом вспыхнула и школа. Совершавший эти поджоги немец, расхаживая около пожарища, упорно повторял тем, кто осмеливался подойти: «Руссиш капут!» (русским смерть!). Время подходило к полуночи; на другом краю сельца занялась одинокая изба: ее поджег квартирант-немец, несмотря на мольбы хозяйки-вдовы и плач ее ребятишек.
Но на другие дворы с копнами полевого урожая огонь не перекидывался: небольшой ветер относил пламя и снопы искр в поле. Если бы немцы подожгли одну-две постройки в скученном месте, то от сотни хат в эту ночь не уцелело бы ничего. Не оказали своего действия и зажигательные пули, летавшие по деревне.
Жители с детьми, замирая, покинули свои пожитки, дворовую птицу и скот; в холодной сырости они укрылись кто в лознях возле речонки, кто в порослях оврагов с неотвязной думой, что вот-вот, сейчас, все освещенное заревом запылает, их самих разыщут и перестреляют. Но враг не торопился, рассчитывая еще на много дней впереди.
Под утро огненные языки, клубы дыма, треск отсыревших бревен начал ослабевать. А на заре вдруг пронесся невероятный слух, что видели пробиравшихся по огородам красноармейцев: то, действительно, был их рассыпавшийся отряд, которому удалось переправиться через Десну в Гущине.
Яркий восход солнца, возвестивший наступление дня Рождества Пресвятой Богородицы, принес радость спасения: немцы убрались, пальба прекратилась! Женщины посмелее, побывав у обедни в близлежащем Троицком монастыре, сообщили, что неприятель очистил и город.
На следующий день богомольные селянки безбоязненно прошли в Троицкий монастырь к черниговскому чудотворцу, святителю Феодосию, открытие мощей которого Православная Церковь празднует 22 сентября и в храме которого в эти дни испытаний спасались многие тысячи народу.
Вступавшие в предместья Чернигова ряды избавителей жители встречали со слезами радости. Вступавшие части изумлялись, что здесь есть люди: в других городах, которые им пришлось освободить, царила мертвенная пустота.
Не удалось немцам лишить и десятки тысяч рассеянных по всему Союзу черниговцев родительского очага и родных могил — того, что, по вещему слову Пушкина, очеловечивает людей:
Два чувства дивно близки нам,
В них почерпаем сердцу пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам,
На них основано от века
По воле Бога Самого
Самостояние человека,
Залог величия его.
А. П. ЧИСТОВ